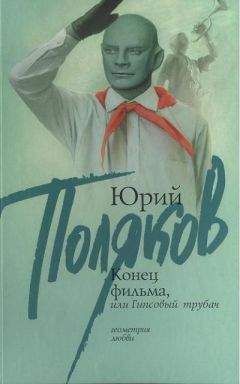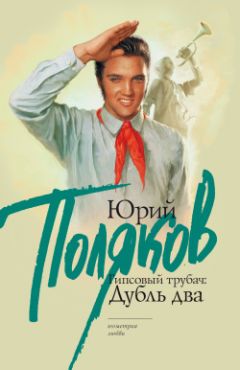Грохот и призывные крики стихли, но потом долго-долго звонил городской телефон и нескончаемо рыдала Сольвейг, оплакивая Андрея Львовича Кокотова, ничем не заслужившего такой неудачной и такой короткой жизни.
На следующий день Кокотов спал почти до обеда, а проснувшись, выглянул в окно: лес, прихваченный ранними заморозками, за ночь пожелтел и побелел, точно Хома Брут, насмотревшийся нечеловеческих кошмаров в ночной часовне. На ограде лоджии писодей увидел крупную птицу с серой головкой, палевой грудкой и зеленоватыми крыльями. Она клевала красную сморщенную рябину и осторожно поглядывала вокруг выпуклым юрким глазом. Ему показалось, что она вот-вот заговорит с ним о здоровье, но пернатая гостья, почувствовав на себе человеческий взгляд, взмахнула крыльями и улетела, как давешний «богомол».
Андрей Львович не удержался и коротко всплакнул над своим несбыточным сном, над невозможностью чудесного исцеления. Потом побрел в ванную — умылся, почистил зубы, снова улегся в постель и стал казнить себя за то, что не открыл вечор Наталье Павловне. Это ж какое-то помрачение — не впустить в номер женщину, которая от нетерпения даже колотила каблуком в дверь! Непостижимо! Автор «Преданных объятий» не поленился, сползал в прихожую, высунулся в коридор — так и есть: внизу на фанеровке виднелись черные загогулины — следы от каблуков. Он хотел немедленно звонить ей и просить о невозможном — о прощении, но взяв в руки «Моторолу», обнаружил, что Обоярова набирала его номер раз десять, а потом разразилась гневной эсэмэской:
Кокотов, Вы невыносимы. Прощайте! Н. О.
Звонить Андрей Львович не решился, а стал сочинять в уме ответную эсэмэску, крутясь мыслью почему-то вокруг знаменитого романа Кундеры «Невыносимая легкость бытия». Когда-то, мечтая разгадать секрет нобелевского мастерства, он прочел его дважды, никаких особых тайн там не обнаружил, зато удивился, насколько же этот чех не любит русских — до зубовного скрежета, до абсурда, до глупой и злобной напраслины. Надо додуматься: оказывается, наши солдатики в 1968-м, высунувшись из танков, исходили жадной слюной, провожая взглядами длинноногих пражанок в мини-юбках. Нет, не из-за уставного казарменного воздержания! А потому что якобы в СССР стройные женские ноги были такой же редкостью, как сервелат в гастрономе — сразу очередь выстраивалась. Уродливые лытки неопрятных советских баб навеки искривлены примесью грязной кочевой крови.
Писодей мысленно выстроил перед собой в ряд Елену, Лику, Лорину Похитонову, Валентину Никифоровну, Нинку и Наталью Павловну. Ну и где кривые ноги? А ведь лет пятнадцать назад, когда он читал «Невыносимую легкость бытия», эта злобная чушь отзывалась в нем болезненным сочувствием. Такое охватывает нашего начитанного соотечественника, когда при нем ругают Есенина.
«Встретить бы этого Кундеру и дать в морду!.. Господи, о какой ерунде я думаю!»
Булькнула «Моторола» — и на экране возник конвертик. Кокотов, затаив сердце, распечатал:
О, мой бедненький рыцарь, о, мой несчастный спаситель!
Я знаю про вашу беду. Мне рассказал Дм. Ант. Мужайтесь! Диагноз не приговор. Медицина всемогуща, а вера всесильна. Я позвонила отцу Владимиру. Он обещал сугубо молиться за вас и советует обязательно попоститься и причаститься перед операцией. Я говорила с отцом Яковом. У него есть молитва-оберег, найденная академиком Яниным в Новгороде в культурном слое XI века. Несколько человек, в том числе певец Марик Стукачев и боксер Клинченко, вылечились с помощью этой молитвы от серьезных болезней. Я скоро примчусь к вам и привезу текст. Когда буду подъезжать, дам знать. Надеюсь, дверь, жестокий, вы мне откроете! Я буду вашей сестрой милосердия, сиделкой, другом!
Еду, еду, еду.
Ваша, Ваша, Ваша!
Н. О.
Кокотов несколько раз перечитал «месседж», поцеловал «Моторолу», а потом долго лежал в мечтательной прострации. Сердце, словно маятник, ухая, качалось, то попадая в тень болезненного отчаянья, то вырываясь в свет любовного трепета. Из этого странного состояния его вывел тихий плач брошенки Сольвейг.
— Ну. Ты. Как? — спросила Валюшкина.
— Нормально.
— Извини. Сегодня. Не приеду.
— Работаешь?
— Угу. У тебя. Есть. Загранпаспорт?
— Есть… — удивился писодей.
— Мой. Кончился. Оформляю.
— Командировка?
— Пожалуй… Держись! Целую.
Кокотов выправил себе паспорт, чтобы съездить в тур «Милан — Флоренция — Венеция», но в последний момент пожалел денег — жаба задушила. Сердце снова качнулось в тень, и он затомился оттого, что никогда теперь не увидит Италию, что Нинка, в отличие от Натальи Павловны, уже избегает встреч с раковым больным, что все это страшно несправедливо, но абсолютная ерунда по сравнению со скорым исчезновением. Потом ему пришла в голову странная мысль: а вдруг рай — это такая туристическая фирма? Она отправляет праведников в лучшие отели у моря, в горах, у минеральных источников, снаряжает экскурсии к пирамидам, в Кижи, по замкам Луары, в Венецию… Мест отдыха и достопримечательностей в мире столько, что хватит до Страшного суда. А как быть с грешниками? Очень просто. Они будут скитаться по тюрьмам, колониям, лагерям. Мест заключения на планете еще больше — столько, что не управишься до трубы архангела…
В этот момент, деликатно постучавшись, в комнату зашел Жарынин. Прежде чем подойти к соавтору, он скрылся в санузле и возился там несколько минут. Андрей Львович даже засердился: мол, отправляясь к больному, мог бы воспользоваться и собственными удобствами. И тут же Кокотову стало смешно, что в последние дни уходящей жизни его волнуют такие пустяки. Игровод наконец вышел из туалета, присел к соавтору, пощупал лоб, пожевал губами, покачал головой. Писодей ощутил себя школьником, простудившимся на катке. Светлана Егоровна тоже щупала лоб, жевала губами и качала головой. Некоторое время Дмитрий Антонович молча сидел у изголовья, потом спросил:
— Ну, не надумали?
— Нет…
— Зря…
— Кто вас просил рассказывать Наталье Павловне про мою болезнь? — со скрипучим неудовольствием проговорил Кокотов, хотя в душе был благодарен режиссеру.
— Зачем вы так с ней?
— Как?
— Вы бы ее видели! Регина с Валькой даже испугались, валокордином отпаивали. Что вы с ней сделали? Решили напоследок оторваться?
— А она что сказала?
— Она не могла говорить из-за рыданий. Колитесь!
— Я… я… Я не открыл ей дверь.
— Что? Ну вы и садист! Теперь я понимаю, почему утром она уехала с вещами…
— С вещами?
— Да. Агдамыч грузить помогал. Столько сумок и картонок! Знаете, я читал, в египетских гробницах у фараоних археологи находят разного барахла гораздо больше, чем у самих фараонов. Правда, забавно?
— Забавно, — буркнул автор «Преданных объятий» и отвернулся, раненный бестактностью.
— …Когда я рассказал ей про ваш… диагноз, она сначала не поверила, потом заплакала и улыбнулась.
— Улыбнулась?
— Конечно! Поняла, что вы не открыли по болезни, а не из-за другой женщины.
— Что?! — вскричал Кокотов: такая простая мысль ему даже не пришла в голову. — Из-за другой?
— Конечно! Она же думала, у вас в номере Нина Владимировна!
— Откуда она узнала про Валюшкину? Надеюсь, вы…
— Не надейтесь…
— Зачем?
— Коллега, любовницы должны знать друг друга. Так проще и честнее. Берите пример с меня! Она все поняла и простила. Но, думаю, Лапузина больше к вам не приедет.
— Уже едет! — торжественно бросил писодей, откидываясь на подушке и закладывая руки за голову.
— Не обольщайтесь! Хотите пари?
— На что спорим?
— На удар кинжала.
— Опять вы за свое! Лучше расскажите, что новенького?
— С Ласунской проблемы…
Оказалось, весть о кончине великой актрисы мгновенно облетела все театральное сообщество. Организацией похорон занялся Союз служителей сцены во главе с народным артистом Борей Жменем, которому блестяще удавались роли мужчин, переодетых фривольными женщинами, чего не скажешь о руководстве такой хитрой организацией, как ССС. Третий загородный дом, воздвигаемый Борей на Нуворишском шоссе, серьезно подорвал финансовые возможности союза. По этой уважительной причине президиум постановил: за давностью заслуг, а также из экономии похоронить усопшую с тихим почетом в том же колумбарии, где теснится прах прочих умерших насельников «Ипокренина». А это значит — засунуть без лишних расходов урну с пеплом в нишу, похожую на ячейку автоматической камеры хранения, и прикрыть мраморной досточкой размером со школьную тетрадку. Дешево и сердито! Все проголосовали «за».
Так бы и поступили, но вдруг выяснилось, что покойная — любимая актриса тещи президента России. В юности она (теща, а не первая леди, конечно) сходила с ума, делала прическу «под Веру» и даже вырвала себе коренные зубы, совершенно здоровые, чтобы достичь той декадентской впалости щек, какой славились Ласунская и Марлен Дитрих. «Эго Москвы», как обычно, оперативно насплетничало, будто лучшая половина президента и ее мамаша уже шьют себе траурные платья у кутюрье Ягтдашкина, чтобы появиться на похоронах с корзиной белых роз. Обе давно мечтали поучаствовать в актерских похоронах, когда гроб с лицедеем выносят со сцены под бурные аплодисменты оставшихся в живых коллег.