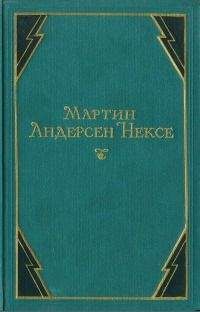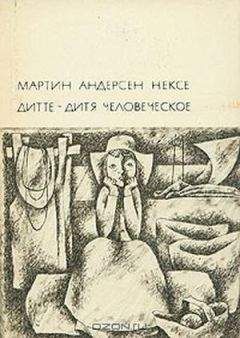Пастор лежал в тонкой белой сорочке и, казалось, приготовился к какому-то торжественному празднику. Он был в забытьи, но, когда вошел старик Эббе, очнулся, однако никак не мог понять, где он, и с испугом обводил взглядом комнату. Затем он все же узнал вошедшего и улыбнулся.
— Сегодня для меня великий день, — прошептал он, — моя борьба кончилась, и мне сейчас показалось, что я уже в другом мире.
Больной едва был в силах взять руку Эббе в свою, так он ослабел. Но пока он говорил, его голос становился все яснее, и особая складка, появившаяся возле губ, показывала, что былой юмор еще не покинул его. Он попросил Эббе сесть возле кровати и взять его за руку. Эббе склонился над больным, чтобы тот не напрягал голоса.
— Прости, что я так рано послал за тобой, — сказал пастор негромко. — День сегодня такой светлый... и я испугался, что, гложет быть, не успею поговорить с тобой; мне еще так много нужно сказать, так поблагодарить! Знаешь, ты ведь всю жизнь был для меня воплощением совести, тем, кого я боялся. Меня постоянно мучила мысль, что ты меня не любишь.
— Ну, это сказано слишком сильно, — возразил старик Эббе. — Я только считал, что твое учение, для служителя божия, чересчур материалистично.
— Для служителя божия? — Пастор Вро, улыбаясь, покачал головой.
— Тогда для духовного наставника! Такой наставник ведь тоже служитель божий!
— Должен быть! Но если он весит два с половиной центнера — на что он годен? Не легко этакой глыбе мяса сохранить высокие черты человека! Сообразно с этим и миросозерцание себе создаешь, — человек всегда создает его, применяясь к своей ограниченности. А потом тут действует упрямство. Знаешь, Эббе, невелика заслуга быть хорошим, если ты такой от природы. Глядя на хороших людей, которые сами тут ни при чем, я всегда сердился, — им доставляет удовольствие бросать миру вызов, красоваться перед всеми своей хорошестью и показывать: вот, мол, каким бог может создать человека! Но в конце концов становится невыносимым выступать в качестве какого-то особого создания природы, даже заболеть можно от тоски и от желания стать просто человеком. Поэтому я втайне завидовал тебе, Эббе: ты раз и навсегда заплатил за это право... — Некоторое время пастор Вро лежал молча, закрыв глаза. — Но теперь, — заговорил он опять, — идет война, миллионы молодых людей жертвуют собой и обречены погибнуть в кратере войны. Так почему же нам не дано разделить их участь? Ведь величайшая жертва та, которая никому не приносит пользы; поэтому символ креста и остается таким неизменным! Эхо исполненных страха возгласов Христа на кресте все еще непрестанно отдается в мировом пространстве — это смертный ужас жертвы перед нирваной; ведь хочется своими страданиями и смертью что-то свершить, пострадать и умереть за других! А там, Эббе, на полях сражений, миллионы вынуждены отдавать себя в руки судьбы и умирать — только умирать, вынуждены заполнять пустоту, небытие, жертвуя своей кровью и своей жизнью. Мне до сих пор жизнь была милее всего; мое собственное я казалось мне чем-то святым и неприкосновенным. Так могу ли я сделать что-нибудь лучшее, чем разделить судьбу миллионов и угаснуть, хотя бы и не принеся этим пользы ни одному человеку? Пойми меня, Эббе, и не осуждай. Когда я был еще мальчиком, я любил мясо, и я, малыш, приставал к матери: почему из мяса не пекут хлеба? И вызывал смех своими вопросами. Да, смех, Эббе Фискер! Мясо, плоть — это нечто страшное, оно делает человека одержимым; поэтому я всегда завидовал бедным людям, — они ведь думают только о хлебе. Как чисты они душой в сравнении с таким, как я! — Пастор поднял глаза и посмотрел на старика Эббе, словно хотел сказать: «Теперь-то ты меня, надеюсь, понял?», потом слегка качнул головой и замолчал, глядя в потолок.
— Ты, верно, думаешь, как и другие, что мое тело больше не принимает пищи, — начал он опять, немного передохнув. — Но послушай, Эббе, что я тебе скажу: это душа моя восстает против плоти! Теперь и я спрыгну в жерло гигантской мясорубки, я хочу иметь право тоже принести жертву! — Пастор Вро глубоко вздохнул, точно после трудного признания; на его лбу выступил пот и струйками растекся по глубоким складкам кожи.
Старик Эббе взял платок и отер ему лицо.
— Никто не имеет права лишать себя жизни, — сказал он вполголоса.
— Да, говорят, ко где это написано? Уже древние знали, что достаточно щадить жизнь других, чтобы защищать жизнь вообще. А теперь я знаю, что это такое — принести в жертву свою собственную жизнь! Веришь ли ты в героизм, Эббе? Никто из сражающихся не сражался так героически, как ваш пастор, который лежит здесь перед тобой, — человеческое существо, на костях которого осталось мяса не больше, чем у птенчика. Посмотри на меня, вот уже свыше месяца, как я не принимаю пищи; догадываешься ли ты, чего стоила эта победа такому лакомке и обжоре? Ибо тогда ты поймешь, что я наконец — наконец-то! — повел честную борьбу, и исполнишь мою последнюю просьбу — как долг христианина в ответ на исповедь христианина. Я победил, Эббе! А теперь хочу попросить тебя дать мне последнее причастие, чтобы я мог войти к моему господу очистившимся и все же вкусившим пищи господней. Согласен ты на это? — голос пастора перешел в шопот. Старик Эббе затрясся всем телом и пролепетал:
— Я не смею. Недостоин я перед богом!
Пастор потянул к себе руку Эббе и положил к себе на грудь.
— Чувствуешь, как бьется мое сердце о ребра? — прошептал он. — Оно хочет выскочить. Воин должен умереть, — бедный бунтарь, который отдал то единственное, что имел! Бог, наверное, не отринет его, а люди...
Некоторое время пастор молчал, он задыхался.
— Это было так страшно, — продолжал он, — пляска... пляска мертвецов — и золотой телец! Перестанут ли они, поймут ли? Ах, эта жертва, Эббе, эта жертва! — Больной беззвучно засмеялся. — Мое сердце мечется, — простонал юн, — оно хочет вырваться прочь из этой уродливой клетки. Вечность гремит у меня в ушах!.. Почему бог не дал мне другой земной оболочки? Почему он заставляет меня быть сильнее его и казнить самого себя?
— Нет, не ты это сделаешь, — сказал Эббе, потрясенный. — Это в тебе великая сила господня, она помогает тебе принести великую жертву, и я, бедный старик, охотно дам тебе причастие вечности.
Пастор благодарно кивнул. Он слегка приподнял голову и показал глазами на стол, где стоял накрытый священный сосуд; казалось, силы совершенно покинули его.
Ясным и громким голосом старик Эббе приготовил его к смерти, но его рука дрожала, и он пролил несколько капель причастия; от этого рука задрожала еще сильнее.
— Ничего, — прошептал пастор, успокаивая его. — Это кровь Христова, и мы, люди, имеем право расточать ее.
Долго лежал потом пастор с закрытыми глазами; казалось, он отходит, погруженный в тихое забытье. Старый Эббе сидел подле и смотрел на него, потом встал и хотел неслышно выйти, чтобы позвать кого-нибудь; но больной это заметил и приоткрыл глаза,
— Спасибо, — прошептал он, — за это и за все. Бедняки, Эббе, ближе к сердцу господа, чем мы! Отдай церковь батракам. Передай прихожанам эту мою последнюю просьбу.
Особого шума смерть пастора Вро не вызвала, — время было слишком суровое. Его смерть была такой же парадоксальной, как и его жизнь. И люди по-хорошему проводили его в последний путь — из благодарности за то, чем он был — особенно раньше — для Эстер-Вестера. Разве не характерно его последнее желание — отдать грундтвигианскую церковь батракам для их собраний! Конечно, этого не следовало понимать буквально. Эббе Фискера, настаивавшего на том, что община должна выполнить последнюю волю своего пастыря, почти никто не поддержал; он, как староста общины, принимал это особенно близко к сердцу. Но сын успокоил его:
— Мы все равно не согласились бы взять себе церковь, если бы даже вы нам и предложили ее, — сказал он. — Лучше мы еще подождем немного и потом построим себе свой собственный дом для собраний!
Хоронили пастора Вро с необычайной торжественностью. Присутствовало все население Эстер-Вестера, и со всех концов страны грундтвигианские общины и высшие народные школы прислали своих представителей. Приехали даже корреспонденты столичной прессы, и Эстер-Вестер с Йенсом Ворупом во главе получил возможность показать себя с самой лучшей стороны.
Вечность получила то, что ей причиталось, и на этом вое и кончилось. Действительность была тут и сурово стучалась в двери к каждому. Ведь только что бешено бушевала непогода, ее ветры были слишком колючими, и люди лишь только о том и помышляли, как бы их выдержать. Теперь пришлось сразу приставать к какому-то берегу, и каждый был озабочен тем, как бы спастись.
Тревога царила и в банке Эстер-Вестера. Банк ждал и ждал. Но после того как выслали последнюю сумму, о докторе Ланге не было ни слуху ни духу. И теперь, когда все несколько отрезвели, правление вспомнило, что не были приняты даже самые простые меры предосторожности, чтобы хоть как-нибудь обеспечить себя от возможного надувательства. Нет, доктор оставался вне подозрений! Йенс Воруп продолжал настаивать на том, что, в свое время, не Ланге предложил ему использовать полезное изобретение и, уж конечно, не навязывал его, а, наоборот, сам Йенс Воруп ловким маневром заполучил препарат для Эстер-Вестера. Однако он все же решил дело расследовать. И так как известнейший уроженец Эстер-Вестера, владелец консервной фабрики Ханс Нильсен, частенько наезжал в Берлин и вообще имел в Германии хорошие связи, его попросили этим делом заняться. Йенс Воруп приехал в столицу и повел с ним переговоры. Ханс Нильсен жил близ Восточного вокзала и занимал квартиру чуть не из десяти комнат. Йенс Воруп потом рассказывал, что квартира эта — настоящий музей, полный ценнейших вещей. У Ханса Нильсена бывали самые важные люди, — ну, ведь он станет скоро чуть не министром, когда в квартале, где жили одни министры, ему поручат контроль по экспорту пищевых продуктов!