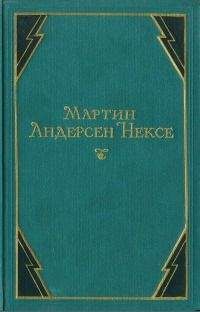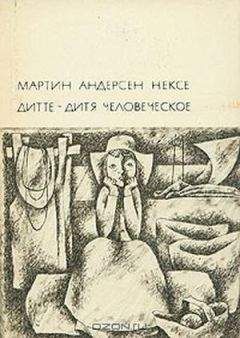На рубеже нового века Ленэ умерла. Эббе было тогда немного больше пятидесяти, но позади уже лежала целая жизнь; и хотя эта жизнь прошла гораздо лучше, чем он ждал, она все же была не такой, как мечталось о том в юности. Казалось, точно он все время собирал силы, чтобы нести бремя; терпение стало его отличительной чертой. Зато поднять что-либо сил уже нехватало, они явно остановились в своем росте: ничего плодотворного совместная жизнь его с Ленэ не принесла. Но, быть может,' жизнь мужа и жены вообще не задумана как источник вдохновения; это в конце концов скорее испытание для души на ее прочность, податливость и способность переносить страдания и... прощать. Так рассуждал про себя Эббе Фискер. Ведь на лицах всех окружающих, думалось ему, можно прочесть, что они во всяком случае не более счастливы в браке, чем он, чаще всего наоборот, хотя женились они при куда более радостных и спокойных обстоятельствах.
О светлой невесте, подруге своей молодости, которую он узнал в самую яркую пору своей жизни, в пору пребывания в Высшей народной школе, он с того времени ничего не слышал и даже попыток не делал что-либо узнать о ней. Усилием воли он держал в узде свое сердце и память и не позволял своим мыслям выходить за пределы домашнего обихода. Теперь все это уже давно погасло. И вообще, разве не в том заключается счастье верного супружества, что муж и жена гасят друг в друге порывы и, переступив через их потухшее пламя, приходят к дружбе, как два товарища.
Он сразу почувствовал утрату товарища, оставшись вдовцом, с большим хозяйством, какое представлял собой его хутор. На руках у него были дети; чем они становились старше, тем настойчивее шли они своими путями, уводившими их от отца. Истина, гласящая, что отцы могут привязать к себе детей, стараясь их понять, звучит неплохо, но осуществить ее в жизни не так-то легко. Какое дело молодежи, как старики понимают жизнь? И сын и дочь были добрые и умные дети, но они жили в своем собственном мире, который был, — да и вполне естественно, это-то отец сознавал, — совершенно отличным от его мира. Эббе узнал одиночество, и помочь ему в этом никто не мог; у него не было близкого человека, с которым бы он мог отвести душу. Но зато он за годы своей жизни приобрел большое душевное богатство, и оно всегда было с ним; на своем жизненном пути он собрал много мыслей и наблюдений и обрел некое таинственное познание, корень которого лежал не в его личном существовании, а, вероятнее всего, во всей жизни человечества. Эббе все чаще задумывался «ад судьбами человечества и говорил иногда, что он, вроде крохотного земного шара, тащит на себе целый мир в своем полете сквозь пространство. В глубине души он и теперь еще не утратил жизнерадостности.
Шли годы. Сын его Нильс закончил педагогическое образование, получил место учителя и женился. Мария вернулась из Высшей народной школы и обручилась с Йенсом Ворупом, дельным, способным парнем, у которого не было ни гроша, но который уже и в ту пору производил такое впечатление, словно хутор привлекал его не меньше, чем Мария.
Эббе Фискер почувствовал, что он силой обстоятельств загоняется в тупик; видно, пора было уходить на покой.
И вот, он начал как-то опускаться. Эббе Фискер никогда не курил и алкоголя не потреблял. Он на всю жизнь запомнил слова директора Высшей народной школы, обращенные им к своим молодым питомцам: кто курит, от того несет, как от свиньи; кто пьет, уподобляется свинье; кто жует табак, сам становится свиньей. С той поры слова эти, навсегда запечатлевшиеся в его памяти, удерживали его от влечения к наркотикам. А теперь он пристрастился к сладкому, — жизнь была ему не мила, если во рту у него не лежал солодовый леденец. Ну что за беда, господи, если человек хочет пососать немного сахара, чтобы подсластить свое существование! Но сахар ли, водка ли, табак ли — от этого дело не меняется! Да, Эббе стал рабом привычки, от которой не мог отделаться, и он стыдился этого.
Однажды он шел по улицам Фьордбю и вдруг почувствовал слабость во всем теле оттого, что проглотил последний леденец. Он остановился посреди узкой улочки и стал в. отчаянии озираться. Вдруг он обнаружил два маленьких окна, где среди горшков с цветущей геранью красовалась банка с солодовыми леденцами, пачка цикория и прочие «товары» такого же рода. Эббе ворвался в лавчонку.
— Свесьте мне леденцов, — почти крикнул он, — но только настоящих солодовых. Я беру для детей, — прибавил он нерешительно, хотя не было никакой видимой необходимости скрывать здесь от кого-либо свою слабость.
Немолодая, маленького роста, хрупкая женщина достала с витрины банку и разломила склеившиеся леденцы. В тонких, увядших пальцах не было силы, и Эббе Фискер смотрел, как" дрожала слабая рука женщины. Он перевел глаза с руки на ее лицо и уже хотел было извиниться за свое нетерпение, но в ту же секунду он узнал ее.
— Анн-Мари, — тихо произнес он. — Моя милая, милая Анн-Мари, — повторял он, и слезы текли у него по щекам.
Они продолжали стоять по обе стороны прилавка, Анн-Мари кротко улыбалась.
— Хватит тебе плакать, по-моему, — сказала она просто. — Ведь слезы все-таки не вода. Я здесь вот уж двадцать лет живу и часто видела тебя на улице, но плакала не так часто.
— Значит, тебе нетрудно было узнать меня, раз ты все эти годы меня встречала, — улыбнувшись, сказал Эббе Фискер и тыльной стороной ладони вытер глаза. — Я же за все это время тебя ни разу не видел, и все-таки узнал. Ты нисколько не изменилась, все те же ямочки на щеках и все такое, совсем как в юности.
— Зато ты сильно переменился, — сказала Анн-Мари, по-матерински разглядывая изборожденное глубокими складками лицо Эббе и его тронутые сединой волосы. — Да это и понятно: тебе многое пришлось преодолеть; нашей же сестре только и дела, что дожидаться своего времени.
Как хорошо она это сказала! Ведь нет сомнения, что жизнь ее была нелегка. Изо дня в день стоять лицом к лицу с неумолимым фактом, от которого тебя ничто не отвлекает! Да, так оно и есть: Эббе переменился, Анн-Мари же осталась такой, как была. Годы, благодарение богу, ее не разрушили; характер ее остался попрежнему кротким и доброжелательным, — таким же, как в юные годы; на щеках играл такой же румянец. Все оттого, что она лишь дожидалась своего времени/
Мария и Йенс Воруп поженились и Эббе Фискер оставил им свой хутор, а себе построил внизу в деревне дом, который назвал — «Тихий уголок», и поселился там вместе с Анн-Мари.
— Поздно пришлось нам свить себе гнездо, — сказал он, когда они вошли в дом, и взял руки Анн-Мари в свои. — Но мы споем с тобой вместе с Грундтвигом: «Как дня начало было светлым, так и конец его прекрасен, — так сердцу мил его закат!» А теперь — спасибо тебе, светлая невеста моей юности, что осталась мне верной и ждала меня!
«Поздно, зато любо», — то и дело повторял про себя Эббе Фискер. Почти на каждом шагу он сталкивался с фактами, приводившими его в изумление: до чего по-разному обошлась жизнь с ним и с Анн-Мари, как мало она ее изменила. Если верно было, что Анн-Мари внешне не постарела, а лишь поблекла, то душой она и вовсе осталась прежней Анн-Мари. Ее внутренний мир все эти годы в буквальном смысле слова пребывал в летаргии ожидания. Теперь она, отдавшись Эббе всеми помыслами, жила рядом с ним как взрослая, но физически не вполне развившаяся девочка, с детской радостью смотрела на него и старалась по глазам прочесть малейшее его желание.
Не верно ли, что женщина расцветает лишь под теплым дыханием мужчины, что нужна 'мужская ласка и радость деторождения для того, чтобы существо ее как бы выкристаллизировалось? Или, быть может, созреванию женщины способствуют эти тысячи как будто бы бесцветных мелочей повседневной жизни, постоянное общение двух людей? Так или иначе, а Эббе Фискер думал, что он нашел непорочную невесту своих юных лет такой же, какой она была некогда; к нему вернулась любовь его молодости, не тронутая молью и ржавчиной.
Эббе Фискер грелся в лучах своего позднего счастья и был твердо убежден, что не выдержал бы испытания Лией, позволившего ему соединиться, наконец, с Рахилью, не будь у него хорошего, светлого детства. И он радовался, что и своим детям сумел создать безмятежное детство, побудив к тому и Ленэ, хотя сама она выросла в скупой и суровой семье, где всех принуждали работать с утра до ночи, и ребенком она радости не видела.
Телесных наказаний дети Эббе не знали; Эббе считал, что доброе начало в человеке требует заботливого ухода, и тогда оно пойдет в рост; добиваться же этого наказаниями — все равно что сечь человека зря, для своего удовольствия. Дети, воспитываясь в таком вольном духе, росли несколько дикими и необузданными. Все, кроме последователей Грундтвига, находили, что они невоспитанны и дерзки, и сомневались, выйдет ли из них толк, когда они вырастут. Но Эббе только смеялся на это: уж ребята его станут настоящими людьми!