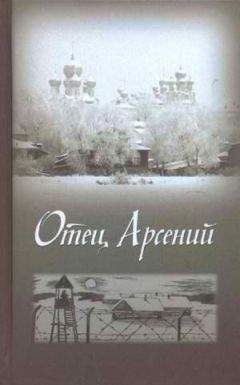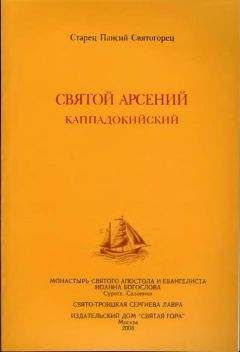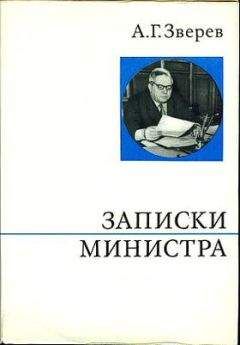Этот уголовник держал в строгости весь свой барак, и начальство его даже побаивалось. Случалось, мигнет ребятам – и готов несчастный случай, а там – веди следствие.
Звали старика «Серый», по виду ему можно было дать лет шестьдесят, внешне казался добродушным. Начинал говорить с людьми ласково, с шутками, а кончал руганью, издевательством, побоями.
Увидал, что о. Арсений несколько раз перебирал дрова, крикнул: «Чего, поп, ищешь?» – «Растопку приготовил с вечера, а ее водой для смеха залили, вот хожу и ищу сушняк. Дрова сырые, что делать – ума не приложу».
«Да, поп, без растопки тебе хана», – ответил Серый. «Народ, с работы придя, замерзнет, вот что плохо, да и меня изобьют», – проговорил о. Арсений.
«Идем, поп! Дам я тебе растопку», – и повел о. Арсения к своим дровам, а там сушняка целая поленница.
Мелькнула у о. Арсения мысль: шутку придумал Серый, знал его характер и помощи от него не ждал. «Бери, о. Арсений, бери, сколько надо».
Стал о. Арсений собирать сушняк и думает: «Наберу, а он меня на потеху другим бить начнет и кричать: «Поп вор!», но тут же удивился, что назвал его Серый «отец Арсений». Прочел про себя молитву, крестное знамение мысленно положил и стал собирать сушняк. «Больше бери, о. Арсений! Больше!» Нагнулся Серый и сам стал собирать сушняк и понес охапку следом за о. Арсением в барак. Положили сушняк около печей, а о. Арсений поклонился Серому и сказал: «Спаси тебя Бог». Серый не ответил и вышел из барака. Отец Арсений разложил в печах растопку стоечкой, обложил дровами, поджег, и огонь быстро охватил поленья в первой печи, успевай только забрасывать дрова, носил их к печам, убирал барак, вытирал столы и опять, и опять носил дрова.
Время подходило к трем часам дня, печи раскалились, в бараке постепенно теплело, запахи от этого стали резче, но от тепла барак стал близким и уютным.
Несколько раз в барак приходил надзиратель, и, как всегда, первыми его словами была озлобленная матерная ругань и угрозы, а при одном заходе в барак увидел на полу щепку, ударил о. Арсения по голове, но не сильно. Ношение дров и беспрерывное подбрасывание их в печи совершенно обессилили о. Арсения, в голове шумело от слабости и усталости, сердце сбивалось, дыхания не хватало, ноги ослабли и с трудом держали худое и усталое тело. «Господи! Господи! Не остави меня», – шептал о. Арсений, сгибаясь под тяжестью носимых дров.
В бараке о. Арсений был не один, оставалось еще трое заключенных. Двое тяжело болели, а третий филонил, нарочно повредив себе руку топором. Валяясь на нарах, он временами засыпал и, просыпаясь, кричал: «Топи, старый хрен, а то холодно. Слезу – в рыло дам», – и тут же опять сразу засыпал.
Другие двое лежали в тяжелом состоянии, в больницу не взяли, все было переполнено. Часов в двенадцать зашел в барак фельдшер из вольнонаемных, посмотрел на больных и, не прикасаясь к ним, громко сказал, обращаясь к о. Арсению: «Дойдут скоро, мрут сейчас много. Холода». Говорил, не стесняясь, что двое лежащих слышат его. Да и почему ему было не говорить, все равно рано или поздно должны они были умереть в «особом».
Подойдя к третьему больному, повредившему себе руку и сейчас демонстративно стонавшему, сказал: «Не играй придурка, завтра тебе на работу, а пересолишь – за членовредительство в карцере отдохнешь».
В перерывах между рубкой дров, топкой печей и уборкой барака о. Арсений успевал подходить к двум тяжелобольным и, чем мог, помогать.
«Господи Иисусе Христе! Помоги им, исцели. Яви милость Твою. Дай дожить им до воли», – беспрерывно шептал он, поправляя грубый тюфяк или прикрывая больных. Время от времени давал воду и лекарство, которое фельдшер небрежно бросил больным. В «особом» основным лекарством считали аспирин, которым лечили от всех болезней.
Одному, наиболее тяжелому больному и физически слабому, о. Арсений дал кусок черного хлеба от своего пайка. Кусок составлял четверть дневного пайка.
Размочив хлеб в воде, стал кормить больного, тот открыл глаза и с удивлением посмотрел на о. Арсения, оттолкнул его руку, но о. Арсений шепотом сказал: «Ешьте, ешьте себе с Богом». Больной, глотая хлеб, произнес со злобой: «Ну тебя с Богом! Чего тебе от меня надо? Чего лезешь? Думаешь, сдохну – что-нибудь от меня достанется? Нет у меня ничего, не крутись».
Отец Арсений ничего не ответил, заботливо закрыл его и, подойдя к другому больному, помог ему перевернуться на другой бок, а потом занялся делами барака.
Растопку, что дал Серый, хоронить не стал, а положил на виду, у одной из печей. Чего убирать-то, вчера убрал, а получилось плохо, а сегодня Бог помог.
Собрался было «нарубить» дров на завтра, вышел из барака, но потом решил, что все равно истопники других бараков растащат все до поверки. Печи накалились, и от них несло жаром. Отец Арсений радовался – придут люди с мороза, отогреются и отдохнут.
Во время этих размышлений вошел надзиратель, на вид ему можно было дать лет тридцать. Всегда веселый, улыбающийся, радостный, прозванный за это заключенными «Веселый».
«Ты что, поп, барак натопил, словно баню? В карцер захотел? Дрова народные для врагов народа переводишь. Я тебе, шаман, покажу», – и, засмеявшись, ударил наотмашь по лицу и, улыбаясь, вышел.
Вытирая кровь, о. Арсений повторял слова молитвы: «Господи, не остави меня грешного, помилуй».
Филонивший Федька сказал: «Ловко он, подлюга, тебя в морду двинул, с весельем, а за что – и сам не знает». Через час Веселый опять появился в бараке и, войдя, закричал: «Поверка, встать».
С нар соскочил Федька, а о. Арсений вытянулся с метлой, которой только что подметал барак.
«Кто еще в бараке?» – кричал надзиратель, хотя уже утром производил поверку и знал, кто оставался.
«Двое освобожденных, лежачих больных, и третий на выписке, ходячий».
Веселый пошел по коридору, образуемому нарами, и, увидев двух лежачих больных, понял, что встать они не могут, но для вида раскричался, однако .подойти побоялся – а вдруг зараза какая.
«Ты смотри, поп, чтобы порядок был, скоро позовут куда надо, там запоешь», – и, скверно ругаясь, вышел. День был на исходе, быстро темнело, и заключенные вот-вот должны были прийти с работы. Приходили обмерзшие, усталые, озлобленные, обессиленные и, добравшись до нар, почти в беспамятстве валились на них.
С приходом заключенных барак наполнился холодом, сыростью, злобной руганью, выкриками, угрозами.
Через полчаса после прихода водили на обед. Время обеда для многих заключенных было временем страдания. Уголовники отнимали все, что могли, и били при этом нещадно, те, кто был слаб и не мог постоять за себя, часто лишались еды.
Политических в бараке было значительно больше, чем уголовников, однако уголовники держали всех живущих в бараке, особенно политических, в жестоком режиме.
Ежедневно какая-то часть политических лишалась пайки, что являлось невыносимым страданием. Усталые, голодные, вечно продрогшие заключенные постоянно мечтали о еде как о чем-то единственно радостном в этой обстановке. Во время обеда люди отогревались и частично утоляли чувство голода.
Обед был жалким, порции ничтожны, продукты полугнилые и почему-то часто пахли керосином.
И этот скудный обед, который не восстанавливал затраченных сил и был рассчитан на медленное истощение заключенных, мог быть отнят, ни один политический не был уверен, что сегодня он съест его.
Отец Арсений, попав в «особый», часто лишался обеда, но никогда на роптал. Останется без обеда, придет в барак, ляжет на нары и начинает молиться.
Вначале кружилась голова, знобило от холода и голода, сбивались мысли, но, прочтя вечерню, утреню, акафист Божией Матери, Николаю Угоднику и своему святому Арсению, помянув своих духовных детей, всех усопших, кого сохранила память, и так, бывало, всю ночь молится, а утром встает – и как будто силы есть, спал и сыт.
Духовных детей у о. Арсения было много и на воле и в лагерях, и душа его болела за них. Раньше в простых лагерях получал иногда письма, а когда перевели в «особый», все кончилось.
В «особый» переводили опасных заключенных, переводили умирать без расстрела, от установленного режима.
Духовные дети о. Арсения считали, что он умер. Обращались в органы, а там ответ один: если перевели в лагерь «особого режима» – «не значится».
…Было темно, колонны заключенных одна за другой входили в зону и растекались по баракам. Бараки оживали. В бараке о. Арсения сегодня было жарко, ребята входили злые, усталые, но, входя в теплый барак, радовались и ругались больше для порядка. Отца Арсения не били и при обеде пайку не отняли, то ли случайно, то ли у других шарашили.
Двум лежачим больным досталась от обеда только половина пайкового хлеба, да о. Арсений от себя кусок прогорклой трески спрятал за пазуху.