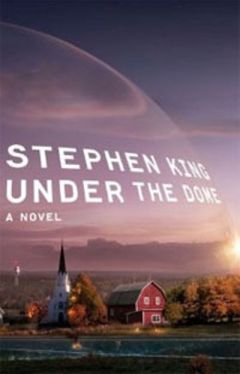Лессира молча внимала словам Гроджа. Если бы она могла обрести доступ к собственному сознанию, то ее поразила бы перемена, произошедшая в ее спутнике, до сей поры сдержанном, немногословном, уверенном в собственных силах, как и подобает умудренному богатым любовным опытом мужчине, а ныне страстном и робком, подобно юноше, несмело пытающемся покорить сердце девушки. Но Лессира могла лишь видеть внешнее, ее обжигал и волновал его огненный взгляд, и она, поддавшись зыбким волнам новых ощущений, молча внимала его словам и безвольно плыла куда-то.
Потом, уже оказавшись в своих покоях, куда ее заботливо проводил архонт Гродж, она никак не могла вспомнить, что же ответила ему, какие слова вымолвили ее губы, все тот же плотный туман застилал ее память и все ее сознание. Уже касаясь разгоряченным лицом узорчатого покрывала своего ложа, готовая погрузиться в зыбкий сон, она только и помнила, что его неотступный, пристальный, горячий взгляд, проникающий, казалось, в самое сердце, волнующий и опьяняющий ее разум. Она не спрашивала себя, почему ее вдруг так взволновал этот человек, ранее для нее совсем непритягательный, ей не думалось и не размышлялось, ей хотелось лишь одного — окунуться в призрачную завесу сна и, может быть, там увидеть продолжение удивительных событий, случившихся с нею сегодня.
Дни, до сей поры летевшие стремительно и радостно, вдруг, словно, застыли в тяжелой печали. С того дня, как Лессира неосторожно назначила ему свидание на главной площади Аталлы, Тод так больше и не встретился с ней. Желание увидеть ее преследовало его неотступно, и он, беспощадно толкаемый им, все бродил и бродил вблизи царского дворца. Но не просто было увидеться с дочерью самого царя Хроноса. Лессира не появлялась, не присылала ему весточек, она будто забыла о нем, стерла из памяти его имя и образ. Мысль об этом доставляла Тоду невыносимое страдание, от которого тоскливо и болезненно сжималось сердце, и рыдания, так несвойственные мужской природе, неожиданно комком подступали к горлу.
Но более всего его терзала неизвестность случившегося. Тоду было неведомо, какие же последствия имела для Лессиры встреча с архонтом Гроджем. Может быть, он обо всем увиденном поведал царю, и тот теперь держит под строгим запретом отлучки Лессиры из дворца. Но неужели она не смогла бы найти возможность подать ему весть об этом? Хотя, должно быть, и Назире не разрешается покидать свою госпожу. Тод терялся в догадках, склоняясь то к одной мысли, то к другой, то впадая в безнадежное отчаянье, то окрыляясь надеждой.
Впрочем, в самой глубине его души таилось смутное объяснение всем его тревогам. Он крепился изо всех сил и не пускал это объяснение в сознание, которое все настойчивее прорывалось к его разуму. Он все не давал укорениться истинной мысли о том, что Лессира — не та девушка, о которой смеет мечтать сын земледельца. Ему невыносимо было это осознать окончательно и навсегда. Нестерпимо больно ему было расстаться на веки со своей прекрасной мечтой, ибо не суждено ей сбыться. И потому он стремился отложить торжество горькой истины, и тщил себя напрасными надеждами.
Ему все еще казалось, что если бы они хотя бы один раз могли встретиться, то обязательно нашли бы какой-то выход из тупика. Он корил себя за своей нелепое, безрассудное поведение, в то время, как угроза нависла над их чувствами и отношениями, он увлек ее в увеселительную прогулку. Но, впрочем, стоило ли так себя истязать? Что он может? Разве от него зависит, быть им вместе или нет?
Чем дальше в прошлое уходил день его последней встречи с Лессирой, тем все призрачнее становились надежды. Каждый наступивший день, каждый новый миг болью отзывался в сердце, ведь любимая не звала его больше к себе, она не хотела также, как он, страстно и нетерпеливо, видеть его. Боль утраты была в сто крат сильнее еще и оттого, что ничей, пусть даже самый прекрасный облик, не мог вытеснить из его сердца единственный, дорогой образ любимой. Он знал, сколько бы ни минуло лет, ему не удастся забыть Лессиру, ему не вырвать из своего сердца горькую память о ней. Никто не заменит ее, ибо никто на всем белом свете не может сравниться с земной богиней, с дочерью царя Атлантиды!
Мысль о смерти все чаще стала его посещать. И действительно, зачем ему жить, если не было больше смысла в его существовании. Не будь этой трагической для него встречи с Лессирой, жизнь его могла бы, пожалуй, стать удачной и процветающей. Учитель Тода был очень благожелателен к нему, после занятий он охотно беседовал с Тодом и еще двумя-тремя своими учениками, которых выделял среди прочих. Было ясно, что учитель намерен именно их посвятить в великие знания, дарованные свыше ему самому. Свет же этих знаний, однажды пролившись и озарив их сознание, без сомнения, сопутствовал бы им всю жизнь. Не было еще случая, чтобы к посвященным ученикам, затем ставших мастерами, не благоволило бы общество, высшая власть, да и сама удача. С самого момента посвящения их путь освещал свет Сынов Мудрости, свет Богов, пред которым не существует на земле преград и заслонов. Не единожды, предчувствуя собственное посвящение, казавшееся ему невероятным чудом, Тод предвкушал большие удачи в своей будущей жизни, предчувствовал он и духовные, и материальные плоды этого счастливого избрания. И всякий раз при мысли об этом сердце его билось взволнованно и радостно.
Но все изменилось с того самого момента, как в его жизнь вошла Лессира. Нет, не вошла, это он, безумный, сам впустил ее, впустил ту, которой выпала судьба прекрасной богиней парить над землей. А он, покоренный ее красотой и очарованием, опьяненный ее присутствием, решил, что она (ОНА!) всегда может быть рядом с ним. Безумец! Глупец! Не следовало ему быть таким опрометчивым и глупым. Разве же он не знал, что дочь царя — не пара никому из его подданных. Но он решил, что Лессира, также как и он, увлечена этим чувством, и потому она будет бороться за свою любовь. Теперь-то он, конечно, понимал, какими наивными были все его мечты.
Тод чувствовал, как с каждым днем несчастной любовью все больше разрушается его внутренний мир, его душа и сердце. В своих мыслях он лихорадочно искал опору и смысл собственной угасающей жизни, и не находил, не видел он для себя земных дорог и путей. Но самое, пожалуй, трагическое было в том, что больше он не находил в себе сил для борьбы с судьбой за себя самого и свое земное существование. Он все отчетливее понимал, что самым лучшим для него будет уйти, оставив здесь, под этим равнодушным небом, свои напрасные надежды и мечты, горечь разочарований и свою великую, ничем невосполнимую утрату. Всякий раз, как посещала его мысль о смерти, он чувствовал необъяснимое облегчение и даже радость, должно быть, оттого, что с потерей земной жизни, он утратит способность страдать и тосковать.
Продолжая размышлять о конце жизни, тем самым, он старался укрепить себя в уже выбранном им непростом решении. Впрочем, что-то неясное и неосознанное все-таки томило его, оно будто бы стремилось воспрепятствовать осуществлению его фатальных планов. Наверное, самой большой преградой было то, что ему неизвестны были случаи самовольного ухода из жизни. Насколько было ведомо его памяти, никто из жителей его процветающей страны сам не покидал свой земной мир. Но в древних манускриптах он читал о таком деянии людей, доведенных до полного отчаяния какими-то обстоятельствами жизни. Помнится, тогда он несказанно был удивлен подобному неведомому явлению, тогда он так и не понял, как же человек может дойти до такого. А теперь сам, погруженный в тьму тоски и печали, он до глубины души сопереживал тем мифическим людям, о которых рассказывалось в манускриптах. И все-таки, как же он может встать на этот путь? Разве не наступит для него наказания за свой самовольный конец? Но неужели может быть еще что-то более худшее, чем то, что он чувствует в сей трагический миг? Нет, он должен решиться и покончить со всеми страданиями. Вот только как? Что он должен сделать с собой? В древних текстах повествовалось только об одном способе, к которому прибегали все, о медленном и полном погружении в воду. После чего наступал для этих людей предел их земного существования. Вот и он поступит также: уйдет в море и, умиротворенный, навсегда останется в его бездонных глубинах. Так он и решил. Ему осталось лишь выбрать день своей смерти. И этот день настал.
В тот день еще ранним утром, словно, почувствовав неладное, Нефрит зашла в опочивальню Тода. Она увидела его лежащим прямо в одежде, он так и не уснул в эту ночь. Его неподвижный взгляд был устремлен в сводчатый потолок. Нефрит подошла к сыну и печально спросила:
— Тод, разве так следует вести себя мужчине, сильному и решительному, разве может мужчина страдать, подобно слабой женщине?
Тод устремил на мать взгляд, полный тоски и печали.
— Так поступать мужчине не должно, — тихо отозвался он, — но, к великой горечи своей, я не могу усмирить свое сердце.