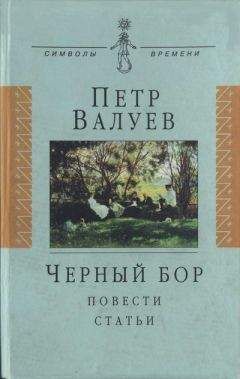— Кто она? — спросил Василий Михайлович.
— Дочь скромного, но почтенного чиновника Снегина, вам, кажется, несколько известного, — Вера Снегина. Она в доме Крафтов своя, потому что ее покойная мать была очень дружна с г-жою Крафт. Она даже многим обязана Крафтам, по части своего образования. Случайное обстоятельство и здесь имело особое влияние. Я заметил, что молодая девушка вполне обладала немецким языком, но менее владела французским, и как-то вызвался быть ее практическим наставником или репетитором по этой части. Мы стали вдвоем всегда говорить на французском языке. Это как-то сближало нас. Мы привыкали друг к другу; но я сам долго не давал себе отчета в свойстве и последствиях этих сближения и привычки. Только в прошлую весну, когда мы уезжали в деревню, для меня выяснилось, до какой степени нам обоим стало трудно расставаться. Когда мы к осени возвратились в город, я убедился, что взял себе ее сердце, — и когда я в этом убедился, то окончательно отдал и мое, в обмен.
— Можешь ли быть уверенным в том, что отдал окончательно и бесповоротно?
— Я успел в этом увериться, папа́, потому что с той поры началась во мне внутренняя борьба между ею и вами, то есть боязнью вас огорчить. Я медлил с признанием вам, потому что сам себя вопрошал и испытывал, зная, что признание должно было произвести на вас тяжелое впечатление. Я думал, что во всяком случае время мне поможет и что, продолжая исполнять мой долг перед вами, я между тем успею несколько более заслужить ваше снисхождение. Быть может, я и теперь медлил бы, если бы вы не решились на продолжительную заграничную поездку. Я вам сказал, что мне уезжать трудно; но мне было бы еще труднее уехать, если бы я не высказался и на все время нашего отсутствия оставил у себя на сердце тайну, которая была бы постоянной рознью между вами и мной…
Лицо Василия Михайловича становилось более и более мрачным; но оно выражало огорчение и озабоченность, а не гнев. Василий Михайлович опустил глаза и неподвижно слушал сына. Молодой Леонин, напротив того, не сводил глаз с отца, внимательно следил за отражавшимися в его чертах впечатлениями и по мере продолжения своей исповеди говорил с возраставшим оживлением. Когда он упомянул о нежелании оставить у себя на сердце рознь между ним и отцом, Василий Михайлович взглянул на него и отрывисто сказал:
— Ты хорошо сделал.
— Благодарю вас, папа́, за ободрительное слово, — продолжал Анатолий. — Оно мне было нужно. Верьте, что все, что вы мне могли бы сказать против моих намерений, мною самим было сто раз себе говорено. Ваше неудовольствие, разрушение ожиданий и желаний, которые вы могли иметь, обманчивость веры в прочность моих чувств, возможность их перемены, возможность поздних и тщетных сожалений, неравенство общественного положения, бремя родни — хотя, к счастью, в данном случае такой родни почти нет — все это мною постоянно сознавалось. Я даже не забывал и неудобства бедности моей будущей невесты; но ведь у нас есть достаток…
— Что же будет, — вдруг сказал Василий Михайлович, взглянув сыну прямо в глаза, — если ты узнаешь, что у нас нет достатка?
Сосредоточенное волнение виделось на лице Василия Михайловича; дрожь была заметна в устах; судорожное движение правой руки надломило карандаш, который он в ней держал. Молодой Леонин побледнел и с изумлением смотрел на отца. Несколько мгновений оба молчали.
— Признание за признание, Анатолий, исповедь за исповедь, — сказал Василий Михайлович глухим голосом. — Если ты не без вины передо мною, то и я перед тобою виноват. Я разорил себя и тебя. Я расточил имение твоей матери, которое был обязан для тебя сохранить. Я слыву, быть может, богатым. На деле другое… Ты знаешь, я прежде играл… Позже я старался поправить состояние, освободиться от обременявших меня долгов. Я входил в спекуляции; но мне не повезло… Впрочем, как и что — для тебя безразлично. Небезразлично только то, что теперь на одной нитке висит вопрос: иметь ли нам достаток или нет? Если нитка оборвется, у нас ничего не останется, кроме нашей, или, собственно, твоей подмосковной, потому что она твоей матерью тебе завещана…
Василий Михайлович отпер ящик, куда он положил другую кучку разобранных им счетов, взял эти счета, бросил их на стол и продолжал:
— Я тебе передал эти счета для расплаты. Вот другие, на сумму вдвое большую, по которым я заплатить не могу. Я вынужден уехать с неопределенными обещаниями вместо платежей. Этого достаточно, чтобы тебе обрисовать мое положение. Нитка, о которой я упомянул, в руках Златицкого. Тебе известно, что он когда-то у меня много выиграл, но выиграл правильно, благодаря моему упорству, и всегда мне оставался приятелем. Теперь я у него в крупной доле по постройке Синегородской железной дороги. Если дело удастся, мы совершенно поправимся. Если нет — то мы с тобой бедняки…
Молодой Леонин встал, подошел к отцу, поцеловал у него руку, обнял его и сказал:
— Вы теперь меня охотнее можете извинить, папа́. Вы сами хранили на сердце тайну, сами медлили признанием, но не по недостатку доверия ко мне, а потому, что берегли меня. Благодарю за то, что теперь высказались. Но вы заранее были убеждены в том, что в моих намерениях перемены произойти не может. Чтобы ни случилось, мы все-таки будем достаточнее бедных Снегиных. Вы почетный опекун и им останетесь. Я вам в большую тягость не буду. Если Снегин мог жить, то и я в наше время найду к тому средства. Я лучше его вооружен для того, чтобы их находить. Во всяком случае, я исполню долг чести и долг моего сердца. От моей доброй Веры я не отшатнусь. Я должен быть ей опорой в жизни и защитой против недостойного брака, который ей начинают навязывать. Я не обману ее доверия и ее привязанности ко мне. Я не только люблю ее, но могу сказать, что отчасти я сам обеспечил себе прочность этой любви. Она привыкала ко мне, пока я привыкал к ней. Ей было с небольшим семнадцать лет, когда мы в первый раз с ней свиделись. Податливость молодости мне далась под руку. В два года я, быть может, несколько довоспитал ее на свой лад. Она умственно объединилась со мной. Мои взгляды, наклонности, понятия ей усвоились. Если вы иногда меня одобряли и даже хвалили, то она еще более, по природным свойствам, достойна вашего расположения, а по придаточным способна его не утратить. Все это, папа́, ни от каких перемен в вашем имуществе не зависит. Притом я теперь еще ничего не прошу у вас; я только предупреждаю вас, что буду просить, и уверен, что в дозволении принести просьбу, в свое время, вы мне не откажете.
Василий Михайлович встал и, ничего не отвечая, стал ходить по кабинету, останавливаясь по временам, как будто желая что-нибудь высказать, потом снова начиная ходить в молчаливом раздумьи. Молодой Леонин также молчал и стоял неподвижно у письменного стола, следя беспокойным взглядом за лицом и движениями отца.
Прошло несколько минут. Наконец Василий Михайлович подошел к сыну и твердым голосом сказал:
— Анатолий! Ты меня знаешь. Я умею взрослого сына считать взрослым; я не охотник до праздных сетований или нравоучений. Кроме того, я считаю себя способным понимать и ценить благородные чувства. Следовательно, я ничего не скажу вразрез твоим чувствам. Но я ничего не скажу и в ответ на то, что ты назвал предупреждением. Дело слишком важно для нас обоих. Мне лично — прости откровенность — оно не в радость. Ты видишь, что я хожу взад и вперед без трости, не хромая. Я не ощущаю никакой боли. Я физически совершенно здоров. Так всегда бывает, когда другая боль заноет глубже. Ты в ней не виновен. Я тебя понимаю; но ты пойми и меня. Ни слова согласия или одобрения сказать не могу. Мы пока с тобой уезжаем. Что будет, когда мы вернемся, Бог весть. Не требую от тебя никаких обещаний, не ставлю никаких условий… Ты меня понимаешь. Ты сам рассудишь, что тебе можно там сказать перед отъездом. Я совершенно свободен — а ты себе хозяин. Теперь обними меня и оставь одного. За бумагами, счетами и деньгами ты зайдешь перед обедом.
Василий Михайлович обнял сына и потом протянул ему руку на прощанье. Анатолий поцеловал и сильно пожал эту руку. Ни тот, ни другой, расставаясь, не говорили. Анатолий вышел. Василий Михайлович долго смотрел вслед ему, потом принялся снова ходить взад и вперед по своему кабинету.
В субботу вечером, накануне дня предназначенного отъезда, Анатолий Леонин получил следующую записку от г-жи Крафт.
«После ваших объяснений с Верой у нас, в среду и четверг, она вчера решилась объясниться с отцом, а я и мой муж переговорили с ним сегодня. Бедный Снегин был страшно взволнован и плакал у нас, как ребенок. Он ни дочери, ни нам не делал никаких упреков, говоря, что видит и понимает, что никто из нас не виноват перед ним и что судьба так вела дело изо дня в день, что сначала нельзя было предвидеть, а потом нельзя было предупредить того, что теперь сбылось и выяснилось. Но он боится за будущность Веры — не потому, чтобы он теперь вам или в вас не верил, а потому, что никто на будущее и в будущем за самого себя поручиться не может. Он смущен и неравенством общественного положения, и всеми толками, которые будут впоследствии возбуждены вашими намерениями, и окончательным взглядом на дело вашего отца, и прочая и прочая. Но все это, естественно, иначе быть не могло, тем более, что об отказе вашего отца изъявить какое бы то ни было согласие в настоящее время и что-либо обещать в будущем, мною было сказано Снегину буквально в тех выражениях, которые вы мне указали. Сегодня Вере нельзя было отлучиться из дома; но завтра, чтоб с вами проститься, Алексей Петрович позволил ей вас принять в его кабинете. Ни его, ни Варвары Матвеевны дома не будет. Они уезжают после обедни и завтрака, в час, чтобы смотреть дачу в Петровском. Варвара Матвеевна непременно хочет нынешним летом жить там, а не в Сокольниках, как бывало прежде. У нас вам прощаться с Верой неудобно, потому что, как вы знаете, мы по воскресеньям не бываем одни. Это позволение вам, впрочем, доказывает, что Снегин вам доверяет. Итак, будьте там между часа и двух или около двух часов. Бедная Вера вас ждет с трепетным нетерпением. От нее зайдите к нам. До свидания. Вы видите, что я свое слово сдержала.