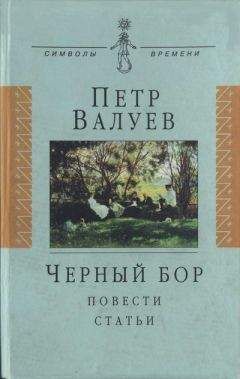Генерал обернулся.
— Извините, — сказал он, — я не слыхал, как вы вошли. Кто здесь? Доктор Печорин?
— Никак нет, ваше превосходительство: аптекарь Крафт.
— А, Крафт? Просите.
Карл Иванович вошел, поклонился и хотел начать с извинения в причиняемом беспокойстве; но генерал перебил его на первом произнесенном им слове и, садясь за свой письменный стол, приветливо сказал:
— Здравствуйте, господин Крафт. Я знаю, по какому поводу я имею удовольствие вас видеть. Доктор Печорин меня предупредил, что или он сегодня ко мне будет, или вы ко мне изволите обратиться. Садитесь против меня, прошу вас, и теперь расскажите подробно все обстоятельства дела.
Приветливое выражение лица генерала и приветливый тон его речи так ободрили Карла Ивановича, что его сразу покинула обычная застенчивость, и он ясно и обстоятельно, без недомолвок и почти без повторений, рассказал все, что происходило между Варварой Матвеевной, Верой, Глаголевым и Парашей в тот день, когда Вера покинула дом своей тетки, и все, что затем относилось собственно до дела Параши. Карл Иванович объяснил особые свойства отношений Веры к нему и к его жене и в заключение упомянул о безуспешности двойной попытки отца Антония и доктора Печорина привести дело Параши к желаемому концу.
Генерал внимательно слушал, не прерывая Карла Ивановича, потом сказал:
— Дело стало мне совершенно ясным после того, что вами дополнено к слышанному уже мною от Гренадерова и Печорина. Только одного вы, кажется, недоговариваете. Почему вы так опасаетесь оглашения имени девицы Снегиной? Вы два или три раза возвращались к выражению этих опасений. Понимаю, что всякий вызов к судебному делу и всякий допрос должен быть не только неприятен, но и тягостен для молодой и благоприличной девушки. Понимаю в особенности, что ее необходимо оградить от встречи или даже очной ставки с таким гнусным господином, каков Глаголев. Но почему сказали вы, что вся будущность Снегиной от этого может зависеть? Она никому не известна, по всей вероятности, за пределами весьма тесного круга знакомых, и оглашение ее имени, хотя бы и в газетах, прошло бы совершенно незамеченным вне этого круга, где ее знают и где оно потому ей повредить не может.
— На то есть особые причины, — сказал нерешительно Крафт.
— Какие?
— Я несколько затруднялся, без прямой необходимости, упоминать об этих причинах. Молодой человек, которого общественное положение выше положения Снегиной, полюбил ее, и она его любит. Отец молодого человека знает об этом, но еще не выразил своего согласия. Я опасаюсь впечатления, которое на него могло быть произведено таким делом…
— Могу ли узнать — кто они?
Крафт смешался и несколько мгновений не отвечал.
— Впрочем, — продолжал генерал, — если вы не считаете себя вправе назвать их, не называйте. Скажите только: знаю ли я их?
— Конечно — знаете обоих, — сказал Карл Иванович.
— Что же делает молодой человек? — спросил генерал, сморщив брови.
— Он еще ничего не знает. Ни его, ни отца здесь нет. Они за границей, но скоро должны быть.
— А! Это другое дело. Тогда я вступлюсь за Снегину. Думаю, что нетрудно будет положить конец всем проделкам г-жи Сухоруковой и ее пособников. Я сейчас должен ехать к генерал-губернатору, но на пути заеду к отцу Глаголеву.
Генерал встал и, протянув руку Карлу Ивановичу, продолжал:
— Благодарю вас, господин Крафт, за сообщенные мне сведения. Вы добрый человек. Я уважаю добрых людей и думаю, что их умею ценить. Будьте у меня сегодня же в три часа. До свидания.
Тотчас после ухода доктора Печорина отец Поликарп получил записку от г-жи Сухоруковой и послал за сыном, который жил отдельно от него в другой части города. Но Борис Поликарпович не приезжал, а торопливо посланный за ним причетник не возвращался. Нетерпение и досада начинали овладевать отцом Поликарпом, когда ему пришли сказать о приезде генерала. В первую минуту имя генерала, видимо, смутило отца Поликарпа; но он быстро оправился, сообразив, что если генерал сам приехал, а не избрал другого способа для сношения или свидания с ним, то в этом заключался более или менее благоприятный признак. «И он будет просить о том, о чем просил Печорин, — думалось отцу Поликарпу, — но я и ему могу дать тот же ответ: пусть упросят Варвару Матвеевну».
С этими мыслями отец Поликарп встретил генерала у дверей своей гостиной и протянул готовую для благословения или для привычного мирянам рукопожатия руку, ожидая соответственного движения со стороны генерала. Но генерал держал каску в правой руке и потому не мог подать этой руки ни под благословение, ни для рукопожатия. Он ограничился словесным приветствием, прошел в гостиную, сел и, прямо обратившись к цели своего посещения, сказал, что ему во всех частях известно дело горничной г-жи Сухоруковой, что он считает это дело дерзкой попыткой воспользоваться судебными формами в видах личной мести, для оскорбления молодой девушки, заслуживающей полного уважения, и что, зная влияние отца благочинного на г-жу Сухорукову, он приглашает его употребить это влияние на тот конец, чтобы дело было ею немедленно прекращено. Отец Поликарп стал отрицать приписываемое ему влияние, уверять генерала в неточности и неполноте дошедших до него сведений и, наконец, обвинять Крафта и его жену в зловредном влиянии на Веру Снегину и даже в старании ее отклонять от соблюдения обрядов православной церкви.
— Чтобы во всем этом убедиться, — сказал отец Поликарп, — вашему превосходительству стоит только спросить г-жу Сухорукову.
— Не за тем дал я себе труд приехать к вашему высокопреподобию, — сказал генерал, вставая, — чтобы от вас ехать к г-же Сухоруковой. Если я вас слушал так долго, то единственно потому, что желал увидеть, до какой степени вы себе позволите рассчитывать на мое легковерие или незнание людей. Теперь речь за мною. Не я, а вы изволите тотчас отправиться к г-же Сухоруковой и сказать ей, — если хотите, и от меня, — что она должна немедленно прекратить затеянное ею и вами гнусное дело.
— Вы не имеете права так говорить со мною, — сказал отец Поликарп, выпрямившись и с видом оскорбленного достоинства.
— Мои права соответствуют вашим поступкам, — отвечал генерал, — и не ограничиваются тем, чего я от вас требую. Если же вы моего требования не исполните, я сегодня же обращусь к вашему начальству и о всем поставлю его в известность.
— Мое начальство меня знает, и я уверен…
— Еще раз спрашиваю, — перебил генерал, несколько возвысив голос, — исполните ли вы мое требование или нет? Ваше участие в деле и участие в нем вашего сына вас прямо к тому обязывает.
— Мой сын совершенно чужд этому делу, — сказал с горячностью отец Поликарп. — Спросите его. Он сейчас должен быть ко мне.
— Он к вам не будет.
— Как — не будет? Почему?
— Потому что он арестован.
— Арестован? — повторил побледневший отец Поликарп. — По этому делу арестован?
— Нет, по другому, — сказал генерал, следя за впечатлениями, которые его слова производили, — по другому, по делу моего прямого ведения. Он давно был у меня на примете; но только на днях разъяснено обстоятельство, которое окончательно его выдало.
— Ваше превосходительство, — сказал дрожащим голосом отец Поликарп, — его жизнь мне известна. Он не может быть виновным в таких делах.
— Он уличен.
— Его оклеветали.
— Он признался.
Судорожное движение пробежало по лицу отца Поликарпа. Он пошатнулся и ухватился рукой за спинку стула, как бы опасаясь упасть. Его обыкновенно полузакрытые глаза совершенно раскрылись и с выражением терзающего отчаяния смотрели прямо в глаза генералу.
— Я сегодня утром его видел, — продолжал генерал. — Он не мог не сознаться. Он сам дал улики против себя. Он обронил, несколько месяцев тому назад, доказательства своей виновности; но принадлежность этих доказательств не могла быть ранее обнаружена и удостоверена.
Слезы сверкнули в глазах отца Поликарпа. Он наклонил голову, несколько мгновений молчал и с видимым усилием переводил дыхание.
— Господь меня покарал, — произнес он, наконец, глухим голосом. — Страшная кара!.. Она сломила меня… Генерал, вы были орудием кары… Каюсь… Будьте орудием милосердия… Спасите моего сына!
— Я не властен спасать.
— Нет, вы властны, вы можете спасти, облегчить участь, по крайней мере, спасти будущность. Карайте меня. Я на все готов, во всем виноват, всему причиной. Сжальтесь над ним. Он молод. И надо мной сжальтесь! Вы одним ударом разрушили все, чем я жил и для чего я жил. Вы меня уничтожили. Для меня теперь мир стал пустыней. Ни света, ни надежды. Вы не были отцом. Вы не знаете, как я любил сына. Для него я всем жертвовал, для него был грешен, жесток, несправедлив. Я ничего не любил, кроме него. Он один был мне опорой и утешением. Вы не знаете, как безотрадна жизнь священника. Среди уничижений, которые я претерпевал и от которых страдал, хотя слыл гордым, среди одиночества, в котором я жил духом, хотя телом жил между людей, — он был и целью и светом каждого дня. Для него я трудился, для него искал известности. Моя строгая жизнь, мои посты, моя тщеславная ревность против врагов церкви, мои тщеславные старания быть красноречивым — все сливалось во мне с тою любовью к нему, которую, однако же, сам Господь вложил мне в сердце. Она влекла меня на грешные пути. Я думал только о том, чтобы открыть перед ним и ему облегчить жизненный путь… А теперь — одним разом все утрачено, разрушено, истреблено. Умоляю вас, генерал, спасите его!