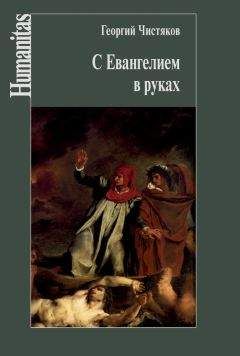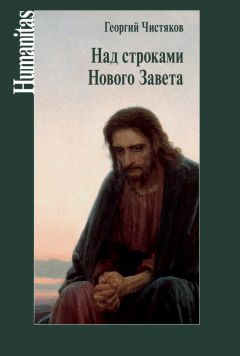Если вдуматься в суть проблемы, то окажется, что ни первый, ни второй из описанных здесь путей нам не подходит, ибо вообще дело не в славянском языке. Для иудаизма иврит, а для ислама арабский действительно являются каждый в своем случае языком веры и существенным компонентом исповедания. Нечто подобное можно сказать, применительно к католицизму прошлого, о латыни, без которой трудно представить себе Западную Церковь в эпоху Средневековья и даже в прошлом веке. Но не случайно именно за латынь всегда порицали католический Запад христиане Востока, справедливо считая, что исповедание не может быть связано с тем или иным языком. В самом деле, в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, бывшие в Иерусалиме «люди… из всякого народа под небесами… каждый слышал их (апостолов), говорящих его наречием» (Деян 2: 5–6). «Как же мы, – восклицали эти люди, – слышим каждый собственное наречие, в котором родились… слышим их, нашими языками говорящих» (там же 2: 8—11). Христианство – вне языка. В отличие от других религий, оно переводимо на любой язык, и эта его переводимость засвидетельствована опытом Церкви первых веков, жившей реальной памятью о нисхождении Духа Святого на святых учеников и апостолов Христовых. Язык – это только часть культуры той или иной страны, в которой христианство исповедуется.
Разумеется, это касается в равной мере и славянского, и латинского, и армянского, и других древних и новых языков. Хотя, конечно, греческий язык, на котором написано Евангелие, арамейский, ибо на нем проповедовал Иисус, а также иврит как язык Ветхого Завета особо важны для нас, христиан, поскольку их изучение и знание может нам помочь глубже и точнее понимать текст Писания. Языки других народов, принявших христианство в древности, тоже нужны нам, ибо Ефрема Сирина можно вполне понять только на сирийском, Иеронима – на латыни, а Кирилла Туровского – на славянском, ибо при переводе любого текста с одного языка на другой потери неизбежны. Таким образом, славянский язык нам очень нужен, но не как язык исповедания (не будем повторять ошибки средневекового Рима!), а в качестве языка многих из тех, кто в прошлом придерживался нашего исповедания. Не как язык христианства, а как язык христиан.
Чем плох язык эсперанто?
В христианстве и для христиан любой язык – не больше чем средство. Вспоминаю, что в Институте иностранных языков студенты не раз спрашивали меня про эсперанто, почему я считаю его изучение не нужным. Я всегда отвечал им, что это язык, на котором никто не рожал, не объяснялся в любви и не умирал. Иными словами, это язык искусственный, язык для интеллектуальной игры. Женщина во время родов забудет про эсперанто и закричит от боли на родном языке, и умирая, мы тоже будем молиться не на эсперанто. Мы знаем об этом и из опыта Самого Иисуса, который, умирая на кресте, воскликнул свое «Боже, Боже Мой, почему Ты Меня оставил» не на иврите, а на том галилейском наречии, которое в Иерусалиме почти никто не понимал, – именно поэтому «некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет… постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его» (Мк 15: 35–36). Эсперанто – механический соловей из сказки Андерсена. Для галилеян эпохи Иисуса иврит уже был чем-то вроде эсперанто, для нас в таком положении оказался славянский. Человек сегодняшнего дня может его выучить, но вряд ли сумеет на нем рожать, страдать, умирать, объясняться в любви и т. д.
Для простого человека молитва на непонятном языке иногда не так уж бессмысленна. Она вызывает в его сердце чувство благоговения перед ее непонятностью и какого-то особенного умиления, которое прекрасно описано Чеховым в рассказе о старушке, со слезами вслушивавшейся в «паки и паки». Но для человека мало-мальски образованного такая молитва крайне вредна, ибо она volens-nolens приобретает характер интеллектуального дела; в молитву на выученном, вызубренном языке охотно включается ум, и при этом из нее начисто выключается сердце. Она оказывается связанной с узнаванием слов и выражений, с работой мысли, но не сердца.
В целом такая молитва приводит к тому, что наше исповедание становится чем-то либо оторванным от жизни, искусственным и напоминающим механического соловья, либо превращается в образ мыслей, философию или идеологию, – в нечто, опять– таки оторванное от реальности. Отсюда наша сердечная сухость, жесткость, безжалостность, отсюда получается, что мы все умеем правильно понять, но не умеем просто пожалеть того, кому плохо, не умеем отозваться на боль другого, прийти на помощь и утешить. Не случайно же сегодня очень многие жалуются на то, что, придя в Церковь, казалось бы, приблизившись к Богу, люди, особенно молодые, почему-то становятся жесткими, бессердечными, резкими, хотя по идее должно быть всё наоборот.
Если же мы поймем, что язык – только форма нашего исповедания, что с ним не связана его суть и сердцевина, форма, быть может, горячо любимая, но форма и не более, то и от жесткости этой мы быстро исцелимся (ибо она на самом деле с ревностью о Боге не имеет ничего общего и представляет собой только один из видов чисто советской «принципиальности»), и множество проблем, накопившихся в стенах Православной Церкви, начнет решаться. А на каком языке служить, тогда уже решать будем не мы – это подскажет нам Сам Господь.
Впервые опубл.: Русская мысль. 1996. № 4112 (8—14февраля). С. 13.За последний месяц я похоронил шесть детей из больницы, где каждую субботу служу литургию. Пять мальчиков: Женю, Антона, Сашу, Алешу и Игоря. И одну девочку – Женю Жмырко, семнадцатилетнюю красавицу, от которой осталась в иконостасе больничного храма икона святого великомученика Пантелеймона. Умерла она от лейкоза. Умирала долго и мучительно, не помогало ничто. И этот месяц не какой-то особенный. Пять детских гробов в месяц – это статистика. Неумолимая и убийственная, но статистика. И в каждом гробу родной, горячо любимый, чистый, светлый, чудесный. Максимка, Ксюша, Настя, Наташа, Сережа…
За последний день я навестил трех больных: Клару (Марию), Андрюшу и Валентину. Все трое погибают – тяжело и мучительно. Клара уже почти бабушка, крестилась недавно, но можно подумать, что всю жизнь прожила в Церкви – так светла, мудра и прозрачна. Андрюше – двадцать пять лет, а сыну его всего лишь год. За него молятся десятки, даже, наверное, сотни людей, достают лекарства, возят на машине в больницу и домой, собирают деньги на лечение – а метастазы повсюду. И этот день не какой-то особенный, так каждый день.
А Самашки с массовыми убийствами мирных жителей? А Буденновск? А вообще вся чеченская война? А Грозный, превращенный в дымящиеся развалины, словно Троя? Город, которого просто нет. А Босния и Сербская Краина? Еще одна бойня. И снова трупы мирных жителей.
Прошло полдня. Умерла Клара. Умерла Валентина. В Чечне погибло шесть российских солдат – а сколько чеченцев, не сообщают… Умерла Катя (из отделения онкологии), девочка с огромными голубыми глазами. Об этом мне сказали прямо во время службы.
Легко верить в Бога, когда идешь летом через поле. Сияет солнце, и цветы благоухают, и воздух дрожит, напоенный их ароматом. «И в небесах я вижу Бога» – как у Лермонтова. А тут? Бог? Где Он? Если Он благ, всеведущ и всемогущ, то почему молчит? Если же Он так наказывает их за их грехи или за грехи их пап и мам, как считают многие, то Он уж никак не «долготерпелив и многомилостив», тогда Он безжалостен.
Бог попускает зло для нашей же пользы либо когда учит нас, либо когда хочет, чтобы с нами не случилось чего-либо еще худшего – так учили еще со времен средневековья и Византии богословы прошлого, и мы так утверждаем следом за ними. Мертвые дети – школа Бога? Или попущение меньшего зла, чтобы избежать большего?
Если Бог всё это устроил, хотя бы для нашего вразумления, то это не Бог, это злой демон, зачем ему поклоняться, его надо просто изгнать из жизни. Если Богу, для того чтобы мы образумились, надо было умертвить Антошу, Сашу, Женю, Алешу, Катю… я не хочу верить в такого Бога. Напоминаю, что слово «верить» не значит «признавать, что Он есть», «верить» – это «доверять, вверяться, вверять или отдавать себя». Тогда выходит, что были правы те, кто в 30-е годы разрушал храмы и жег на кострах иконы, те, кто храмы превращал в дворцы культуры. Грустно. Хуже, чем грустно. Страшно.
Может быть, не думать об этом, а просто утешать? Давать тем, кому совсем плохо, этот «опиум для народа», и им всё– таки хотя бы не так уж, но будет легче. Утешать, успокаивать, жалеть. Но опиум не лечит, а лишь на время усыпляет, снимает боль на три или четыре часа, а потом его нужно давать снова и снова. И вообще страшно говорить неправду – особенно о Боге. Не могу.
Господи! Что же делать? Я смотрю на Твой крест и вижу, как мучительно Ты на нем умираешь. Смотрю на Твои язвы и вижу Тебя мертва, нага, непогребенна… Ты в этом мире разделил с нами нашу боль. Ты как один из нас восклицаешь, умирая на Своем кресте: «Боже, Боже мой, почему Ты меня оставил?» Ты как один из нас, как Женя, как Антон, как Алеша, как, в конце концов, каждый из нас, задал Богу страшный этот вопрос и «испустил дух».