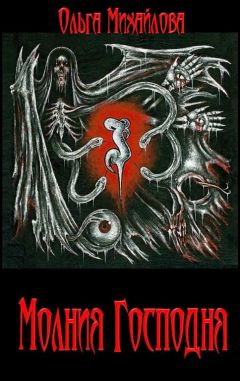Но Подснежник был начеку.
Молва теперь называла погибших женщин несчастными жертвами высокопоставленных негодяев-магнатов.
Элиа не вёл допросы и не сидел на заседаниях, но вечерами Джеронимо дважды заставал его читающим протоколы писцов, смертельно бледного, с трясущимися руками. «Возгремели надо мною суды Твои, Господи, и ужасом и трепетом поразил Ты все кости мои, и душа моя устрашилась страхом велиим…»
Общество «Веселых волчат» возникло в день Ангела синьора Траппано, почти полтора года назад, и поначалу там собирались только оба братца Тавола, Чемизи да Толиди. Круг блудников увеличивался постепенно. Все синьоры приглашались по одной, но среди них синьора Лаура не значилась. Она, по свидетельству Толиди, появилась там впервые незадолго до смерти Лотиано. После их ссоры… Элиа упорно искал ответ на вопрос Джеронимо, но при этом мучительно боялся узнать правду. Вианданте, заметив это, сказал, что, ответ им уже найден. Исходя в своих предположениях из мужской логики, он, оказывается, ошибся в суждениях, касающихся женщины. Никто не собирался пользоваться его служебным положением, и гипотеза о том, что его одного синьоре было мало — тоже должна быть отвергнута. Он шёпотом, двусмысленно улыбаясь, дословно передал другу слова донны Мирелли о нём и его пассии. Джеронимо полагал, что сказанное должно польстить самолюбию Элиа, но тот чувствовал себя… впрочем, он и сам не мог бы определить, что чувствовал. Выслушал молча, и смутился почти так же, как Джеронимо. Не то ужаснулся, не то изумился: «Так и сказала?!»
— Угу.
Элиа поспешил к рукомойнику, умылся ледяной водой, но и час спустя на его щеках пунцовели пятна. Чёрт возьми, что за город? Ходят старухи в чёрном и читают в тебе, как в книге! Старая ведьма! Вот кого сжечь бы надо. Да, он и вправду… упивается женственностью… и Лаура говорила ему, что ей хорошо с ним, и не одна она. Все женщины таяли в его объятиях — он видел, как они покорялись ему, как страстно ждали свиданий с ним, как ревновали. Он помнил, с каким рабским обожанием относилась к нему Лаура Джаннини, как превозносила его достоинства в постели, как менялась в лице во время их последней ссоры. Она не хотела терять его — он чувствовал это. Она любила его и не хотела терять, оскорбленная, она потеряла себя… Она его любила. Это не было ложью, и принесло некоторое облегчение.
Но слова старухи жгли, как раскалённое железо.
Элиа отводил глаза от Джеронимо, который, кстати, делал то же самое, и вообще поспешил в тот день пораньше удрать из Трибунала. В тот вечер Элиа ночевал у зятя и, судя по запаху от него наутро, явно пытался забыть откровенности донны Мирелли с помощью верначчи. Но не сумел, и утром категорически отмёл в разговоре с Джеронимо намёк донны Мирелли на то, что именно он развратил донну Лауру.
— Мечтать об этом подвале она начала тогда, когда услышала откровенности подружки! Причём тут я? — худоба Элиа, нервная издерганность и восковая прозрачность лица испугали Джеронимо. Он понимал, что недавнее ранение и кровопотеря никогда не сказались бы столь пагубно на здоровье Элиа, если бы ни смерть донны Лауры и чёрные, отравляющие душу мысли. Совпадение этих обстоятельств усугубляло их, и, видя его состояние, Вианданте поспешил согласиться с Элиа и отослал его к синьоре Терезе с запиской, в которой приказал кухарке накормить прокурора так, чтобы тот не смог вылезти из-за стола, а самому Элиа велел дождаться, пока он, переговорив с князем-епископом, придёт к обеду.
Когда тот ушёл, инквизитор с улыбкой про себя всё же заметил, что в самооправданиях Элиа нет ничего, что противоречило бы словам мудрой старухи.
Князь-епископ без промедления утвердил приговор, исполнение которого было назначено на следующий день.
…Такого скопления народа городская площадь ещё не знала. Толпа во время казни бушевала, закидывая приговоренных светским судом к сожжению колдунов и убийц гнилыми луковицами. Салуццо, высокомерно оттопырив нижнюю губу, заметил, что простолюдины умирают куда мужественнее аристократов. Даже последние мерзавки, вроде Белетты, и то держались с большим достоинством.
Зрелище, и вправду, было жалкое.
Вианданте тоже присутствовал на казни — дело, что и говорить, было громкое. Безмолвно озирал толпу, словно искал кого-то. Его взгляд, блуждавший по площади, наконец, перенесся в даль, к реке, и он едва приметно вздрогнул, заметив на балконе дома дельи Элизеи крохотную фигурку в чёрном.
Торги по реализации конфискованного имущества дали огромную сумму — свыше двадцати восьми тысяч флоринов, половина из которых поступила в Священный Трибунал. И это позволило не только повысить жалование денунциантам и охранникам, выдать награды за отличную службу, но и весьма порадовать щедрыми подарками детишек Леваро. Что касается князя-епископа Клезио, то он живо и деятельно захлопотал о ремонте ризницы, перекрытии крыши на колокольне и новых статуях для храмовых арочных пролетов Сан-Лоренцо. Нуждался в ремонте и мост, ведущий через реку в восточную часть города.
Через несколько дней на допросах у Элиа заговорил Пелато. «Уверяет, что вещи из дома Спалацатто вынес не он, а его напарник. Вельо дала тому какую-то мерзость, он намазал ею ручку двери, а остаток кинул под порог. И всё, дескать. А вещи он просто хранил у себя дома», доложил Леваро инквизитору. «Ты сам-то в это веришь?» Элиа опустился на скамью. Джеронимо посмотрел на его усталое и безразличное лицо. «Что с тобой?» Тот не ответил, лишь посмотрел странными, в последнее время будто увеличившимися глазами, и без того огромными. Может, оттого, что сильно похудел, хотя и раньше толщиной не отличался…
Но, впрочем, было и нечто, что странно упраздняло для Элиа многие тягостные впечатления этих дней, и это была та исполнившаяся вдруг мечта, воплощение которой он видел теперь поминутно. Для Элиа понятие дружбы было равно сходству душ, но для Джеронимо оно было равнозначно родству духа. Едва Вианданте стал говорить Элиа «ты», к этому добавились ласковая заботливость, приятельская задушевность и полное доверие. Теперь Джеронимо позволял себе делиться с Элиа мыслями, причём его возросшая откровенность порой пугала, обнажая запредельную высоту суждений. Иногда Джеронимо костерил дружка на чём свет стоит и поминутно над ним подшучивал. Но о донне Лауре больше не высказывался, старался не напоминать о прошедшем даже взглядом. Лишь однажды, видя, что Элиа снова погружён в глубокую задумчивость, спросил: «Ты все ещё думаешь о ней?»
Элиа апатично пожал плечами. Он и сам не понимал, что с ним. Пока эта женщина была жива, она томила и изнуряла его, но сейчас он ощущал странное чувство фантомной боли, словно болел палец на отрезанной ноге. Её жуткая, пугающая смерть, которую Элиа то и дело рисовал в своём воспаленном мозгу с протоколов допросов «весёлых волчат», странно примирила его с ней. Он скорбел и вспоминал то немногое, чем она порадовала его. Но строки допросов, огненными нитями пробегавшие в глазах, описывавшие вытворявшиеся ею мерзости, снова леденили сердце, и ощущения эти, поминутно меняясь, убивали. Джеронимо, глядя на друга и весьма прозорливо понимая, что с ним происходит, подумал, что его лучше оставить в покое. Деньки выдались, что и говорить, суматошные. В этот вечер Элиа уже не перебинтовывали, порез на плече затянулся.
На храмовой колокольне пробили повечерие. К этому времени у Терезы как раз были готовы заказанные инквизитором пончики, нескромно называемые «вздохами монахини», с сахарной пудрой и мёдом. Элиа без всяких вздохов съел десяток, а Джеронимо, вздохнув, поведал синьоре Терезе, что завтра из Больцано приедет его собрат Умберто Фьораванти, проездом в Триест, и хорошо бы угостить его такими же пончиками. Угостил он пончиком и любимого Схоластика, проигнорировав замечание синьоры Бонакольди о том, что негоже так баловать его — перестанет ловить мышей.
Вианданте по монастырской привычке решил не обременять себя мыслями на ночь.
«Господи, в чем состоит уверенность моя? В чем изо всего сущего первое мое утешение? Не в Тебе ли, Господи, Боже мой? Где Ты, там небо: смерть и преисподняя повсюду, где нет Тебя. В Тебе, Господи, Боже мой, полагаю всю надежду свою и прибежище, в Тебе утверждаю всякое горе и всякую нужду свою: ибо во всем, что вижу кроме Тебя, обретаю только бессилие и непостоянство. Не в силах дать помощь сильные союзники, и мудрые советники не дадут полезного наставления, и ученые книги не утешат, и ничто многоценное в мире не выкупит, и никакое уединенное место не даст безопасной ограды, — если Ты Сам не заступишь, не избавишь, не укрепишь, не утешишь, не наставишь, не соблюдешь…»
Он вздохнул и тихо уснул.
в которой неожиданно выясняется, что мессир Вианданте не только богослов, но и сказочник…
Умберто приехал утром, едва рассвело, выехав, видимо, затемно. В монастыре они не были друзьями, но иногда были рады часок-другой поболтать друг с другом, особенно о трудах Аквината, которым оба были увлечены. Но сейчас их объятие было по-настоящему братским — горячим и искренним. Разлука усилила их тоску по монастырским временам, а у Умберто, как вскоре понял Джеронимо, был и сугубый повод скорбеть по ним.