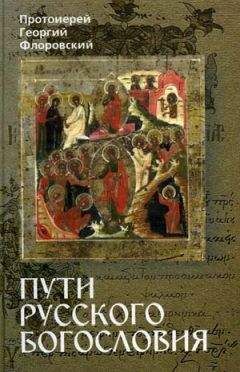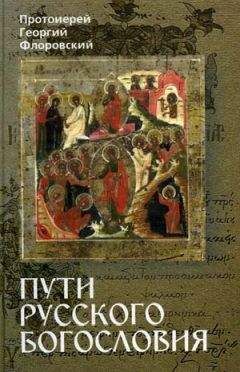Выполнив эти две существенные свои обязанности, при раскрытии каждого догмата, т.е. показав, как учит о нем православная Церковь, и доказав, на основании Священного Писания и Священного Предания, почему она так учит, догматическое Богословие может:
3) Допустить и соображения здравого разума человеческого касательно рассматриваемого догмата (Рим. 12:2; 1 Фес. 5:20). Если этот догмат будет истина, доступная уму, в таком случае ум может найти для нее новые пояснения и даже подкрепления в кругу собственных познаний. Если же догмат будет таинственный и непостижимый, тогда ум может, по крайней мере, показать, как тайна эта, при всей непостижимости своей, светоносна для верующего, — как тесно соединена она с другими истинами христианского вероучения, постижимыми для разума, — как мысль, ею выражаемая, достойна Бога, сообразна с Его совершенствами и вместе полезна для нравственности человека, — как несправедливо отвергать эту тайну потому только, что она непостижима и т.д. Наконец известно, что и догматы постижимые для разума, и особенно догматы непостижимые, всегда подвергались и подвергаются возражениям со стороны вольнодумцев, которые, большей частью, заимствуются из разума, и потому не иначе могут быть и опровергаемы, как при пособии разума. Правда, все такого рода соображения естественного смысла человеческого в пояснение ли, или в подкрепление и защищение догматов, не могут иметь большой цены в области христианского Богословия, положительного и сверхъестественного, но они могут весьма облегчать уразумение догматов христианских верующими, приближая их к понятиям возвышенных истин Откровения, и в иных случаях, по крайней мере, не излишни (при раскрытии догматов непостижимых), в других — полезны (при раскрытии догматов постижимых), в третьих — даже необходимы (при решении возражений). Посему-то святые Отцы и учители древней Церкви не только не отвергали законного употребления разума и знания в области веры, но считали это даже необходимым,[45] и когда раскрывали в подробности христианские догматы, особенно против не правомыслящих, то отнюдь не ограничивались при этом одними свидетельствами Священного Писания и Священного Предания, а имели обычай обращаться и к здравому смыслу человеческому, призывали на помощь диалектику, философию, естествознание и другие науки, старались находить в них, каждый по мере своего личного разумения, доказательства или пояснения на откровенные истины.[46] И так поступали знаменитые учители не только в тех случаях, когда дело касалось догматов постижимых, когда, например, доказывали единство Божие против многобожников, или бытие Промысла против стоиков и пантеистов, или объясняли происхождение зла в мире из злоупотребления свободы человеческой против гностиков и маркионитов,[47] но и тогда, когда, опровергая заблуждения еретиков, рассуждали о величайших таинствах христианской веры: о троичности Лиц в Боге, о предвечном рождении Бога Слова, Его воплощении, крестной смерти и т.п. Творения вселенских великих учителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого и особенно творения святого Афанасия Великого и блаженного Августина наполнены такого рода умственными соображениями о всех этих непостижимых истинах.[48] А святой Иоанн Дамаскин, первый богослов-систематик, оставил нам в своем “Точном изложении православной веры” еще ближайший образец того, как можно в области догматического Богословия соединять вместе с доказательствами и пояснениями истин из Откровения, будут ли они постижимы или непостижимы, доказательства и пояснения тех же истин из разума.[49]
Надобно только, при этом употреблении разума в области православной Догматики, держаться следующих правил: а) употреблять его не иначе, как по примеру древних святых Отцов, а не как хотят новейшие поборники разума (ratio) — рационалисты, т.е. должно постоянно удерживать его в послушании вере (2 Кор. 10:5),[50] которая есть и основание[51] и источник,[52] и необходимое условие (Ис. 7:9),[53] и истинный судия (κριτήριον) всякого богословского знания,[54] — наблюдать, чтобы разум обходился с откровенными истинами с должным благоговением,[55] и не силился постигать и объяснять то, что превыше сил его,[56] не дерзал думать о себе более, нежели должно думать (Рим. 12:3), — но отнюдь не признавать разума судьей веры, который будто бы имеет право подвергать сверхъестественные догматы своему критическому взору, произносить о достоинстве их свой приговор, и потом истолковывать их так или иначе: это было бы уже не употребление, а злоупотребление разума в области откровенного Богословия, — злоупотребление, которое столько противно самому существу христианского Откровения, Божественного и сверхъестественного, противно намерениию Христа-Спасителя и Апостолов, требовавших от людей преимущественно веры (Марк. 16:16; Рим. 14:23; Евр. 11:6 и др.), — злоупотребление, против которого так восставали все древние учители Церкви;[57] б) следовать при этом не какой либо частной философской системе и учению исключительно, а вообще здравому разуму, и, по совету Отцов, пользоваться всем, что только можно находить полезного для веры во всех знаниях человеческих, подобно пчеле, которая, садясь на каждый цвет, умеет извлекать из него одно то, что для нее годно;[58] в) все такие, даже законные соображения разума в области догматического Богословия, будут ли они принадлежать лично нам, или будут заимствованы нами из писаний святых Отцов, отнюдь не ставить наравне с самыми догматами, не сравнивать с доказательствами или пояснениями догматов, заимствуемыми из Священного Писания и Священного Предания, не считать даже за действительные доказательства в строгом богословском смысле: забвение этого правила, как показал опыт римской церкви, нередко приводило к тому, что частные мнения некоторых древних учителей или даже позднейших богословов возводили на степень догматов;[59] г) не вдаваться в излишние диалектические тонкости при рассуждении о догматах, а тем более избегать пустых вопросов, не относящихся прямо к положительному учению Церкви; пример схоластики средних веков показал, до чего могут довести догматическое Богословие подобные тонкости и вопросы.[60]
4) Может призывать на помощь историю догматов. Мы уже замечали, что догматы веры, как истины Божественные, всегда остаются неизменными в учении Церкви православной: она и ныне преподает эти истины в том самом виде, в каком приняла их от самого Господа Иисуса, и будет преподавать до скончания века. Но образ разумения догматов частными верующими изменялся уже не раз в продолжение веков: бывали люди, которые имели ложные мнения о догматах; бывали и такие, которые совершенно искажали или отвергали догматы и впадали в ереси. Вследствие чего святая Церковь созывала Соборы Вселенские и Поместные, и делала на них точнейшие определения и объяснения этих догматов, для руководства православным; а ревностные пастыри писали целые сочинения против еретиков, и, смотря по свойству ереси, по требованию обстоятельств места и времени, употребляли, каждый по мере своих личных понятий и соображений, такие или другие толкования или доказательства в пользу защищаемого догмата. Отсюда произошла история догматов, которая, при изложении их в православной Догматике, может ощутительно способствовать к точнейшему уразумению церковного о них учения. Не надобно только, чтобы эта история излагалась в Догматике обширно: подробное изложение ересей и ложных мнений, касавшихся истин веры, равно как подробное изложение учения святых Отцов и учителей Церкви, защищавших эти истины, служат предметами для особых наук, а Догматика должна заимствовать из них в свою историю догматов лишь столько, сколько, действительно, окажется нужным для лучшего уразумения их, и следовательно — только тогда, когда это в самом деле будет нужно. Но так как есть догматы, которые, по крайней мере, в частных своих положениях, никогда не подвергались перетолкованиям и ересям, или весьма легко могут быть понимаемы и без помощи истории, то, очевидно, обращаться к ней Догматика должна только в некоторых, действительно требующих того, случаях, — например, при изложении учения о Святой Троице, о воплощении, о лице Богочеловека и т.п. Место для истории догмата, при подробном раскрытии учения об нем в Богословии, смотря по удобности, может быть в самом начале, или в средине, или в конце раскрытия. А всего приличнее эта история может быть соединяема с доказательствами на догмат, приводимыми из Предания, по близкой соприкосновенности их с нею.