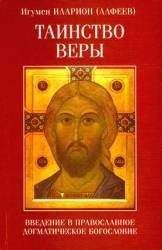Но космическое понимание божественного стремится упразднить в человеке чисто личностное измерение именно потому, что видит в Боге только энергию; а откровение закона, полностью очеловечивая человека и ограничивая выражение зла, не может изменить сердце, преобразить «каменное сердце» в «сердце плотяное»: Бог на небе, а человек — на земле, подлинное общение между ними невозможно.
Отсюда вытекает третье и «всеобщее воплощение» Слова — тайна Христа, в котором божественное и человеческое, божественное и, через человеческое, — космическое, соединяются неслиянно и нераздельно. Евхаристия раскрывает сакраментальные возможности материи, а аскеза — животворящая аскеза — делает возможным «созерцание славы Божьей, таящейся в существах и в вещах». Все аватары являются только предвосхищениями, то есть образами этого космического Христа, под началом которого объединяется история. Св. Иустин Философ во II веке говорил о «семенах Слова» (logoV spermatikoV), присутствующих повсюду. Мне кажется, что подобное видение характерно и для устремления New Age, но сталкивается с суровой правдой личности и общения, суровой, ибо требует от нас ответственности и свободы. Человек не спасается, приобщаясь к космосу или, вернее, растворяясь в безличном божестве через медитацию во вселенной, в конечном счете иллюзорной; он призван спасти космос, передавая ему силу воскресения, разгадывая во Христе, в огне Духа, его молчаливое торжество, переводя его на язык, вовлекая в диалог с Отцом.
Эта мощная концепция оказалась затемненной в современную эпоху. Нам надлежит вернуть ей всю ее культурную и социальную значимость, насытить ею экологию, перенося акценты от этики на сакраментальное. Великие русские «софиологи» попытались сделать это в начале XX столетия. Их теории не всегда были безупречными, но они напомнили о важности понятия Премудрость, встречающегося в некоторых книгах Ветхого Завета, особенно в восьмой главе Притч. В этом таинственном образе, предвестнике космического Христа, Премудрость является одновременно проявлением Божественного и тайной, сакраментальной «формой» сотворенного: это женский образ, в котором выражается материнская нежность живого Бога. Здесь через личное откровение реинтегрируется архаическое Священное, объединявшее мужское и женское начала. Вот почему о. Сергий Булгаков мог написать, что «мудрость открывает себя миру как красота» и что священная земля, святая плоть земли «призывает обожествление», составляет как бы «внутренности Божественного воплощения».
С другой стороны, греческие и сирийские отцы настаивают на человеческом единстве в самом реалистическом смысле, единстве, без конца раздираемом ненавистью и убийством, но которое воплощенное Слово созидает вновь, полностью усваивая человечность. Для св. Григория Нисского, например, божественное Слово: («Сотворим человека по образу Нашему» (Быт 1:26)) касается человечности, взятой в своем единстве: «Сказать, что существует много людей, есть обычное злоупотребление языком… Конечно, есть множество личностей, разделяющих одну и ту же человеческую природу… Но через всех них человек есть одно». Христианство здесь, — здесь мы уже вспомним Паскаля, — настаивает одновременно на величии человека и на его ничтожности, трагизме его положения, последнее измерение, духовность, которую New Age, кажется, слегка игнорирует. В глубине человека нашла пристанище смерть, порождая в нем одновременно и тревогу, и зачарованность ею, и это тайное и отвергаемое наваждение, от которого он бежит, разменивая смерть на страхи и беспокойство, и особенно проецируя ее на своих врагов. Отсюда бесконечная значимость воскресения Христа, через которое Он вызывает из небытия все человечество и заменяет тревогу внутри нас доверием, а дыхание смерти — Святым Духом, «Подателем жизни». И это дает нам право, как об этом заповедано в Евангелии, «любить врагов наших». По правде говоря, нам вообще больше не нужны враги!
Онтологическое единство Адама, воссозданное Христом, последним Адамом, оно одновременно и откровение «инаковости» — вот почему христианство «новой эпохи» будет призвано объединить два духовных полушария планеты: архаичное, азиатское полушарие, как и New Age, настаивающее на единстве, и полушарие семитическое, библейское и кораническое, ставящее акцент на инаковости. В Боге совпадают абсолютное единство и абсолютная разность. Бог живой настолько «Один» — «Сверхъединство», — говорит один из отцов церкви, — что Он несет в себе тайну Другого, импульс любви в то же время, что и бесконечное преодоление всякой противоположности.
О сердце Отца,
Откуда с великой радостью
Бесконечно течет Слово!
И верно, что повсюду
Его Слово сохраняется Его дыханием,
Одна река из двух,
Огонь любви и струящийся Дух,
Нераздельный Дух бесконечной сладости:
Трое есть Один.
Знаешь ли ты Его? Нет.
Он один знает, Что Он есть,
Круг Троих глубок и таинственен…
Там царит бездонная пропасть…
Чудесное кольцо бесконечно источающий источник,
Остающийся неподвижным [5]….
Эта тайна общения — единство–инаковость — передается людям через боговоплощение, ибо человек создан по образу Божьему и призван войти в тринитарное общение, участвовать в Духе в вечном рождении Сына. Естественное является в Нем сверхъестественным, что охотно признают сторонники New Age, ибо мир, и прежде всего человек, его совесть и намерения, существуют только по благодати. «Бог вдохнул дыхание жизни, Дух жизни в ноздри человека, и человек стал живым». Св. Григорий Назианзин называет это «струей Божественности»:
«Слово Божье взяло крошечную частицу только что созданной земли, сотворило Своими Божественными руками наш образ и наделило его жизнью: ибо Дух, Который Он в него вдохнул, является струей невидимой Божественности. Так, из грязи и из Дуновения, был создан человек, образ Бессмертного… Вот почему в моем земном качестве я привязан к этой жизни, но так как я ношу в себе также маленькую частичку Божественности, желание грядущего мира терзает мое сердце» [6].
Однако в то же время, в том же ритме единства–инаковости, Бог удаляется (цимцум иудейского мистицизма), чтобы оставить человеку (и ангелу, и всему творению) пространство для их свободы. Заставляя появиться, — «позволяя появиться», — говорит Бердяев, — другие свободы, Он реально входит в трагичную и прекрасную историю, становящуюся чудесной историей любви. У зла нет больше даже идеи; его лицо, по слову Леона Блуа, струи тся кровью во мраке. Тем не менее Бог близок, ожидая, пока Ему не отворят, чтобы быть на поле брани вместе с нами до тех пор, пока «да» женщины не позволит Ему полностью, личностно (а не только через свои «энергии») войти в сердце своего творения, чтобы обновить его, полностью восстановить в нем силу Царства. Он настолько уважает нашу свободу, что позволяет нам убить себя, но Он не перестает призывать, убеждать, освобождать нас через крест и воскресение, через «безумие любви», о котором этот крест свидетельствует. Во Христе нам открываются все пути к «обо–жению», мы вновь обретаем в Нем наше призвание «сотворенных творцов»; богочеловечность, отвергнутая вначале и предложенная нам отныне, становится пространством Духа и свободы. Чем более человек наполнен божественным присутствием, тем более он устремляется к источнику, находящемуся за этим присутствием, к прозрачно–светящимся сумеркам, откуда неустанно бьет свет. И в этом странный парадокс христианского знания: чем больше Бог познан, тем более Он открывает себя как Незнакомец, тем более любим ближний и тем менее мы пытаемся им овладеть. Во Христе мы являемся одним телом, мы — члены, и те, и другие, единое существо, одна обоготворенная жизнь, — и, однако, каждый есть личность, уникальное, несравненное лицо. Как Бог, чьим образом мы являемся, каждый из нас — одновременно тайна и любовь. Таков смысл истинной красоты, таков путь в будущее.
Красота загадочна, и она, — единственная или почти единственная, — способна сегодня пробуждать людей. Раня душу, она делает ее уязвимой и для ада, и для рая. Или просто для чудесной и хрупкой радости бытия…
Отношения красоты и веры двусмысленны. Для узко понятого монотеизма красота может пониматься как идолопоклонство: иудаизм, ислам, Реформация остерегаются изобразительных искусств, православие исключает из своих образов и воображаемое, и внешнее. Но когда вера освобождается от какого бы то ни было морализма, она способна уважать во всякой красоте, сколь бы «конвульсивной» она ни казалась, попытку «углубления в бытие». Вера способна также преображать саму красоту: в священных текстах, в каллиграфии, в иконе, в хоровом пении, в очищающей пустоте мечетей, в изобилии храмового искусства… Библия воспринимает искусство как дар, для ислама красота — одно из божественных имен.