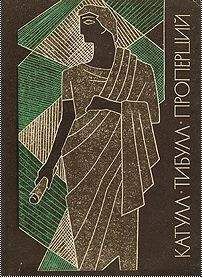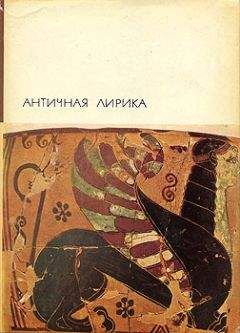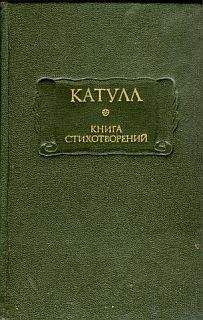9
Ты, Вераний, из всех мне близких первый
Друг, имей я друзей хоть триста тысяч,
Ты ль вернулся домой к своим пенатам,
Братьям дружным и матери старушке?
Да, вернулся. Счастливое известье!
Видя целым тебя, вновь буду слушать
Об иберских краях, делах, народах
Твой подробный рассказ: обняв за шею,
Зацелую тебя в глаза и в губы.
О! Из всех на земле людей счастливых
Кто меня веселей, меня счастливей?
Вар мой с площади раз к своей подружке
Свел меня посмотреть - я был свободен.
Мигом я увидал, что потаскушка,
Но собой недурна и не без лоска.
Сели, стали болтать. Зашла беседа
Про Вифинию - как, мол, там живется
И как много нажить сумел я денег.
Отвечал я, как есть: ни с чем вернулись
Все: и сам я, и претор, и когорта,
Никому не пришлось принарядиться.
Да и претор - свинья: свои же люди,
А ни на волос к ним вниманья!.. - "Все же, -
Отвечают они, - ты, верно, добыл
То, что там, говорят, вошло в обычай:
Для носилок людей?" И захотелось
Мне хвастнуть, что, мол, я других счастливей.
"Уж не так, говорю, мне было худо,
Хоть на долю мне край неважный выпал,
Чтоб шести не купить верзил здоровых!"
У меня же нигде, ни там, ни в Риме,
Ни единого нет, кто мог бы ножку
Старой койки моей взвалить на плечи:
А распутнице что? Она сейчас же:
"Мой Катулл, говорит, мне их на время
Одолжи, дорогой! Добраться надо
Мне к Серапису в храм". - "Ну что же, можно:
Завтра: только они: я спутал малость:
Так сказать, не мои: их мой товарищ
Цинна Гай: так сказать: себе их добыл:
Впрочем, он или я - совсем неважно:
Ими пользуюсь вроде как своими:"
До чего же груба ты и настырна,
Человеку не дашь чуть-чуть забыться!
Фурий и Аврелий, везде с Катуллом
Рядом вы, хотя бы он был за Индом,
Там, где бьют в брега, грохоча далече,
Волны Востока, -
Или у гиркан, иль арабов нежных,
Или саков, иль стрелоносных парфов,
Или там, где воды окрасил моря
Нил семиустый,
Или даже Альп одолел высоты,
Где оставил память великий Цезарь,
Галльский видел Рен и на крае света
Страшных бриттанов;
Что бы ни послала всевышних воля,
Все вы вместе с ним испытать готовы.
Передайте ж ныне моей любимой
Горьких два слова:
Сладко пусть живет посреди беспутных,
Держит их в объятье по триста сразу,
Никого не любит, и только чресла
Всем надрывает, -
Но моей любви уж пускай не ищет,
Ей самой убитой, - у кромки поля
Гибнет так цветок, проходящим мимо
Срезанный плугом!
Ты рукой, Марруцин Азиний, левой
За игрой и вином нечисто шутишь:
Под шумок у зевак платки таскаешь.
Это что ж? Остроумие? Нет, дурень,
Ничего нет глупей и некрасивей.
Мне не веришь? Спроси хоть Поллиона,
Брата, он и талант отсыпать рад бы,
Чтоб проделки покрыть твои, мальчишка
Знает толк в развлеченьях и остротах.
Значит, гендекасиллаб колких триста
Получай иль верни платок сетабский.
Нет, не сам по себе платок мне дорог -
Мнемосины он дар и дружбы доброй.
Он Веранием и Фабуллом прислан
Из Иберии дальней мне на память.
Я подарок друзей любить обязан,
Как Веранчика милого с Фабуллом.
Хорошо ты откушаешь, Фабулл мой,
Если мил ты богам, на днях со мною,
Только сам принеси с собой получше
Да побольше обед, зови красотку,
Да вина захвати и острых шуток!
Если так, хорошо откушать сможешь,
Драгоценный ты мой, а у Катулла
Весь кошель затянуло паутиной.
Но зато от души любовь получишь
И подарок еще, нежней и тоньше:
Ароматную мазь, моей подруге
Подношенье Венер и Купидонов.
Как понюхаешь, вмиг богов попросишь,
Чтоб ты стал целиком, Фабулл мой, носом!
Если не был бы ты мне глаз дороже,
Кальв мой милый, тебя за твой гостинец
Ненавидел бы я ватиниански.
Что такого сказал я или сделал,
Что поэтов ты шлешь меня прикончить?
Да накажут того клиента боги,
Кто набрал тебе стольких нечестивцев!
Небывалый подарок! Не иначе,
Это Суллы работа грамотея.
Что ж, оно хорошо, премило даже,
Что не зря для него ты потрудился.
Боги! Ужас! Проклятая книжонка!
Ты нарочно ее прислал Катуллу,
Чтобы он целый день сидел, как дурень,
В Сатурналии, лучший праздник года!
Это так не пройдет тебе, забавник!
Нет, чуть свет побегу по книжным лавкам,
Там я Цезиев всех и всех Аквинов,
И Суффена куплю - набор всех ядов!
И тебе отдарю за муку мукой.
Вы же будьте здоровы, отправляйтесь
Вновь, откуда нелегкая несла вас,
Язва века, негодные поэты!
И себя, и любовь свою, Аврелий,
Поручаю тебе. Прошу о малом:
Если сам ты когда-нибудь пленялся
Чем-нибудь незапятнанным и чистым, -
Соблюди моего юнца невинность!
Говорю не о черни, опасаюсь
Я не тех, что на форуме толкутся,
Где у каждого есть свои заботы, -
Нет, тебя я боюсь, мне хрен твой страшен,
И дурным, и хорошим, всем опасный.
В ход пускай его, где и как захочешь,
Только выглянет он, готовый к бою,
Лишь юнца моего не тронь - смиренна
Эта просьба. Но если дурь больная
До того доведет тебя, негодный,
Что посмеешь на нас закинуть сети, -
Ой! Постигнет тебя презлая участь:
Раскорячут тебя, и без помехи
Хрен воткнется в тебя и ерш вопьется.
Вот ужо я вас
Мерзкий Фурий с Аврелием беспутным!
Вы, читая мои стишки, решили
По игривости их, что я развратен?
Целомудренным быть благочестивый
Сам лишь должен поэт, стихи - нимало.
У стихов лишь тогда и соль и прелесть,
Коль щекочут они, бесстыдны в меру,
И легко довести до зуда могут, -
Не ребят, говорю, но и брадатых,
Тех, которым не в мочь и ляжкой двигать.
Из-за тысячи тысяч поцелуев
Перестали меня считать мужчиной?
Вот ужо я вас
О Колония, хочешь ты на мосту своем длинном
Порезвиться и поплясать, да боишься решиться:
Стар мостишко, столбами слаб, да и строен из дряни,
Бедный рухнет того гляди в тину кверху ногами.
Пусть же мост, как желаешь ты, ветхий сменится крепким
И окажется даже впрок для священных плясаний.
Я, Колония, между тем, всласть хочу насмеяться:
Есть у нас гражданин один - вот кого бы охотно
Я с моста твоего швырнул с головой и ногами;
Только там, непременно там, где болотина шире,
Где зловонная гуще грязь и бездоннее тина.
Больно он не остер умом, понимает не больше,
Чем в дрожащих руках отца годовалый младенец.
А у глупого есть жена в лучшем возрасте жизни,
Избалованней и нежней, чем козленок молочный:
Вот за ней бы и глаз да глаз, как за спелою гроздью,
А ему-то и дела нет, пусть гуляет, как хочет,
Он лежит, не подымется, как в канаве ольшина,
Чей у корня подрублен ствол топором лигурийца,
И не чувствует, есть жена или все уж пропало.
Точно так же и мой чурбан: спит - не слышит, не видит,
И не знает, кто сам он есть, и живет он, иль мертвый.
Вот его и хотел бы я с вашей сбросить мостины -
Тут, авось, уж встряхнется он, как хлебнет из болота
И оставит в густой грязи непробудную спячку,
Как во вмятине вязкой мул оставляет подкову.
Стихотворения 18-20 отсутствуют
Ты, о всех голодов отец, Аврелий,
Тех, что были уже и есть поныне,
И которые впредь нам угрожают,
Вздумал ты обладать моим любимцем,
И притом на виду: везде мы вместе,
Льнешь к нему и забавам всяким учишь.
Тщетно. Сколько ни строй мне всяких козней,
Все же первый тебя я обмараю.
Если будете вы блудить, наевшись,
Я, пожалуй, стерплю. Но вдруг - о горе! -
Будешь голодом ты морить мальчишку?
Это дело ты брось, пока прилично,
Или бросишь, когда замаран будешь.
Суффен, которого ты знаешь, Вар, близко, -
Прелестный человек: умен, остер, вежлив.
Но он же и стихов насочинял бездну:
В день выдает по десять тысяч строк с лишним.
И не на палимпсесте он стихи пишет,
Как водится, - папирус у него царский,
На новых палках, шнур и переплет - красны,
Свинцом линован свиток и оттерт пемзой.
Но почитай стихи: и где ж Суффен прежний?
Из них глядит пастух иль землекоп серый,
И до чего же страшный, не узнать вовсе.
Так, значит, тот, кого мы шутником звали
И тертым остряком, или еще хуже, -
На деле груб, грубее мужичья, только
Своих стихов коснется. Для него слаще
Минуты нет, когда стихи писать сядет.
Как он любуется собой и как счастлив!
Но все мы слабы: нет ведь никого, в ком бы
Не обнаружился Суффен, хотя б в малом.
Так суждено, у каждого своя слабость.
Никто не видит сам, что за спиной носит.