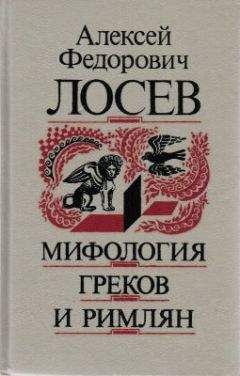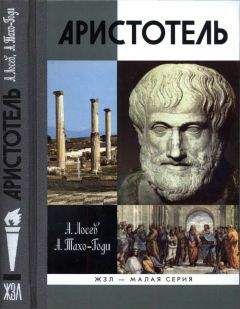56. Я оставался в городе один с Ксенофонтом, а отца и всех своих отправил заранее в Амастриду. Когда я собирался отплыть, Александр прислал мне в знак дружбы многочисленные подарки. Он обещал доставить мне для путешествия корабль и гребцов. Я думал, что все это делается чистосердечно и искренне. Когда же в середине своего пути я заметил, что кормчий плачет и спорит с гребцами, мои надежды на будущее омрачились. Александр, оказалось, поручил им погубить нас, бросив в море. Если бы это случилось, он легко бы закончил борьбу со мной. Но кормчий слезными мольбами убедил своих спутников не делать нам ничего дурного или враждебного; обратившись ко мне, он сказал: «Вот уже шестьдесят лет, как ты видишь, живу я безупречной и честной жизнью, и не хотел бы я в таком возрасте, имея жену и детей, осквернить руки убийством». Он объяснил, с какой целью принял нас на судно и что ему приказал сделать Александр.
57. Высадив нас в Этвалах, о которых упоминает и дивный Гомер,114 он отправился обратно. Здесь встретил я боспорских послов, плывших от царя Евпатора в Вифинию с ежегодной данью. Я рассказал им об угрожающей нам опасности, встретил в них сочувствие, был принят на корабль и спасся в Амастриду, с трудом избежав смерти.
С этого мгновения я объявил Александру войну и привел, как говорится, в движение все снасти, желая ему отомстить. Впрочем, его я ненавидел еще до злого умысла против меня и считал своим злейшим врагом за гнусность его нрава; теперь же я стал усиленно подготовлять обвинение, имея много союзников, особенно среди учеников Тимократа, философа из Гераклеи. Но Авит,115 бывший тогда правителем Вифинии и Понта, чуть ли не мольбами удержал меня от этого и убедил бросить хлопоты: ввиду расположения Рутиллиана к Александру невозможно-де наказать его, даже схватив на месте преступления. Итак, мне пришлось умерить свой порыв и оставить смелость, неуместную при таком настроении судьи.
58. Не является ли среди прочего большой дерзостью и следующий поступок Александра? Он попросил императора переименовать Абонотих в Ионополь. Также попросил он чеканить новую монету, на одной стороне которой было бы выбито изображение Гликона, а на другой — Александра с повязками деда его Асклепия и кривым ножом Персея, прародителя с материнской стороны.
59. Александр предсказал самому себе, что ему назначено судьбой прожить полтораста лет и умереть пораженным молнией. Однако, не дожив и до семидесяти лет, он погиб самой жалкой смертью. У него, как и подобало сыну Подалирия, вся нога сгнила целиком, до самого паха, и кишела червями. Тогда же заметили, что он плешив, так как страдания вынудили его предоставить врачам смачивать ему голову, чего нельзя было делать иначе, как снявши накладные волосы.
60. Таков был конец трагедии Александра, таков был исход всей драмы. Если он и произошел случайно, то все же можно предположить в этом как бы некий промысл. Оставалось только устроить погребальные торжества, достойные такой жизни, и объявить соискание на дальнейшее владение прорицалищем. Самые главные сообщники и обманщики обратились за решением к судье Рутиллиану — кому из них принять прорицалище и быть украшенным повязкой главного жреца и пророка. Среди них был и Пет, по роду занятии врач, человек уже седой, но задумавший дело, не подходящее ни врачу, ни седому человеку. Однако Рутиллиан, бывший судьей в соискании, отправил их обратно, никого не наградив венком. Рутиллиан оставил звание пророка за Александром и после его ухода из здешнего мира.
61. Эти немногие из многих дел Александра я счел достойными описания, желая, мой милый, доставить удовольствие тебе — товарищу и другу; ведь из всех людей более всего я удивляюсь тебе за твою мудрость и любовь к правде, мягкость характера и снисходительность, спокойствие жизни и общительность. Главным образом писал я для тебя — это еще приятнее, — чтобы отомстить за Эпикура, мужа поистине святого, божественной природы, который один только без ошибки познал прекрасное, преподал его и стал освободителем всех имевших с ним общение.
Думаю, что и для многих других мое писание окажется полезным, опровергая одно, другое укрепляя во мнении благоразумных людей.
116
Лукиан желает Кронию117 благоденствия
1. Злосчастный Перегрин, или, как он любил себя называть, Протей, испытал как раз то самое, что и гомеровский Протей. Ради славы Перегрин старался быть всем, принимал самые разнообразные обличил и в конце концов превратился даже в огонь: вот до какой степени он был одержим жаждой славы. А теперь этот почтенный муж превращен в уголь по примеру Эмпедокла, с тою лишь разницей, что Эмпедокл, бросаясь в кратер Этны, старался это сделать незаметно; Перегрин же, улучив время, когда было самое многолюдное из эллинских собраний, навалил громаднейший костер и бросился туда на глазах всех собравшихся. Мало того, Перегрин за несколько дней до своего безумного поступка держал перед эллинами соответствующую речь.
2. Воображаю, как весело будешь ты смеяться над глупостью старикашки. Мне кажется, я слышу твои восклицания, какие ты обычно произносишь: «Что за нелепость, что за глупая погоня за славой!» и так далее, — восклицания, которые у нас вырываются при подобных поступках. Но ты можешь говорить все это вдали от места происшествия и не подвергаясь опасности, а я говорил у самого костра, говорил еще до этого перед громаднейшей толпой слушателей, причем некоторые, восхищавшиеся безумием старика, негодовали на мои слова; впрочем, нашлись и такие, которые сами смеялись над ним. Но все же киники чуть было не растерзали меня, как настоящие собаки разорвали Актеона или менады — своего родственника Пенфея.
3. Порядок действий в этой драме был таков. Автора ее ты знаешь, знаешь, что это был за человек и сколько он представил трагедий в течение всей своей жизни, превзойдя самих Софокла и Эсхила. Что касается меня, то я, лишь только прибыл в Элиду, стал бродить по гимнасию, слушая какого-то киника, который громким хриплым голосом вопил о всем известных, избитых вещах, призывая к добродетели, и всех просто-напросто поносил. Его крикливая речь завершилась восхвалением Протея. Я постараюсь, насколько смогу, точно передать по памяти, что говорилось; ты же можешь себе представить это вполне отчетливо, так как неоднократно присутствовал при выкриках этих философов.
4. Киник говорил: «Находятся люди, которые смеют называть Протея тщеславным! О мать-земля, о солнце, о реки, о море и ты, родной Геракл!118 И это говорится о Протее, который сидел в заключении в Сирии, который подарил родному городу пять тысяч талантов, который был изгнан из Рима, который яснее солнца, который может состязаться с самим владыкой Олимпа! Решил Протей удалиться из этой жизни при помощи огня — вот и приписывают это его тщеславию. А разве не поступил точно так же Геракл? Разве не от молнии пострадали Асклепий и Дионис? Наконец, разве не бросился Эмпедокл в кратер вулкана?»
5. Когда Феаген119 — таково было имя крикуна — произнес эти слова, я спросил одного из присутствовавших: что значит упоминание об огне и какое отношение к Протею имеют Геракл с Эмпедоклом? Тот ответил: «Протей вскоре сожжет себя в Олимпии». — «Как, чего ради?» — спросил я. Тогда мой сосед попытался было все рассказать, но киник так кричал, что не было никакой возможности слушать кого-либо другого. Пришлось поэтому и дальше выслушивать, как киник рассыпается в самых удивительных преувеличениях насчет Протея. Он утверждает, что с Протеем нельзя сравнивать не только Диогена синопского или его учителя Антисфена, но даже Сократа. Самого Зевса он вызвал на состязание! Под конец все же ему заблагорассудилось признать Зевса равным Протею, и речь свою он закончил приблизительно так:
6. «Жизнь, — говорил он, — видела два величайших произведения: Зевса Олимпийского120 и Протея; создали их художники: Зевса — Фидий, а Протея — Природа. Но это произведение искусства теперь удалится, вознесенное огнем от людей к богам, и оставит нас осиротелыми». Когда он, обливаясь обильным потом, все это изложил, то стал всем на потеху плакать и рвать волосы, но весьма осторожно, чтобы на самом деле не выдернуть их. Наконец какие-то киники увели рыдавшего Феагена, стараясь его утешить.
7. После него немедленно, не дожидаясь, пока толпа разойдется, поднялся другой оратор, чтобы принести возлияние на алтарь, где еще пылала жертва предшественника. Сначала он долго смеялся, причем видно было, что он делает это от всего сердца, а затем стал говорить приблизительно так: «Поскольку проклятый Феаген закончил свою нечестивую речь слезами Гераклита, то я, наоборот, начну смехом Демокрита».121 После этих слов он опять стал долго смеяться, так что рассмешил многих из нас.