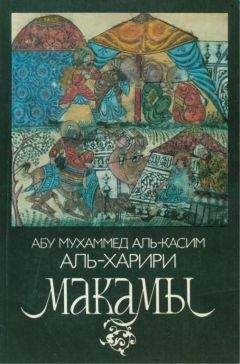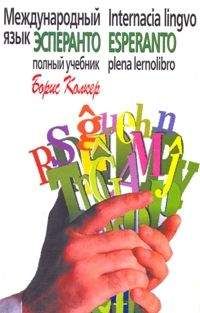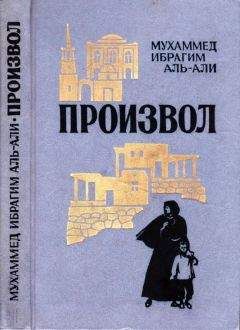Мальчик сказал ему в ответ:
— Аллах да простит тебя — конечно, нет!
Абу Зейд спросил:
— А за поучение — какого-нибудь печения?
Мальчик сказал ему в ответ:
— Да направит Аллах тебя — нет и нет!
Абу Зейд спросил:
— А взамен трактата ученого — гороху моченого?
Мальчик оказал ему в ответ:
— Помолчи и больше не спрашивай — нет!
Абу Зейд в вопросах своих изощрялся, разговором этим от души развлекался. А мальчик понял, что этот спор бесконечен, что противник его весьма учен и в ораторстве безупречен, тогда он сказал:
— Довольно, о шейх, показал ты свое красноречие. Хочешь — на все твои вопросы сразу отвечу я? В этой деревне ни хвалу не купят у тебя за халву, ни предсказанье судьбы за жареные бобы; здесь не продашь за оливки остроумия сливки, а рифм золотой песок — за мяса кусок. Будь ты самим Лукманом[317], здесь за мудрость твою не купишь барана, а красноречья река не даст тебе капли кислого молока!
Нынче перевелись острословия покровители, таланта щедрые одарители, тучи, которые дождь проливают, когда мудреца на пути встречают. И где теперь найдется султан, который за звонкую хвалу поэту подымет сан?! Для них литератор или поэт словно пастбище высохшее, где ни травинки нет; но если пастбище не орошается, то оно пропадает без пользы и в нем никто не нуждается. А знания, если богатством не подкрепляются, то они нелегко воспринимаются; их в голове у себя сохранять — словно камни большие в доме держать!
Кончив речь свою, мальчик заторопился, распрощался с с нами и прочь пустился. Абу Зейд сказал мне:
— Вот видишь, знанья — товар, не имеющий сбыта, друзьями прежними давно позабытый.
Мне пришлось поневоле согласиться с его рассуждением и признать правоту его мнения. Тогда он сказал:
— Оставим, друг мой, о поэзии спор, поведем о еде разговор. Не будем касаться предмета бесплодного — ведь сравненья и рифмы не насытят голодного! Как бы искру жизни нам сохранить и пожар внутри погасить?
Я ответил:
— Поводья в твоих руках. Действуй на собственный риск и страх.
Он предложил:
— Если б твой меч мы отдали в залог — обоих он нас прокормить бы мог. Подавай-ка его сюда — через минуту будет еда! Не подумавши ни о чем дурном, я его опоясал своим мечом. На верблюдицу он взобрался — и с честью и дружбой в тот миг распрощался. Долго пришлось мне Абу Зейда ждать; потом я пустился его догонять. Да напрасно! Поверив обманщику сгоряча, больше не видел я ни его, ни своего меча.
Перевод А. Долининой
Рамлийская макама
(сорок пятая)
Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:
— Видывал я над своей головою разных стран небеса; отразились в зеркале моих странствий всех краев земных чудеса; в дальних местах опасность не раз мне грозила и, случалось, близкой казалась могила. Но сколько удивительного зато я узнал, сколько диковинного повидал. А самое памятное из приключений и самое забавное из развлечений случилось в городе Рамле[318] когда-то, у судьи, в доме большом и богатом.
Явился к судье ветхий старик в столь же ветхий плащ облаченный, а с ним молодая красотка — жалость внушал ее вид удрученный. И только старик рот собрался раскрыть, желая дело свое судье изложить, как красотка его перебила и сама вдруг дерзко заговорила. Без стыда и смущенья откинув с лица покрывало, она такие стихи сказала:
О почтенный и мудрый рамлийский судья,
Пусть твоя справедливость отверзнет уста!
Муж не хочет свой долг предо мной выполнять:
Посещать не желает святые места!
Редко-редко ленивец отправится в хаджж —
Словно лишняя в том для него тягота.
Вслед за хаджжем бы сразу и умру свершить,
Как велит Абу Юсуф[319], да удаль не та!
Между тем за собой я не знаю греха,
Незапятнана чести моей чистота,
Никогда я не смела перечить ему —
Без вины пропадает моя красота!
Прикажи ему истово долг выполнять,
Чтоб дождем изливалась его щедрота,
Или, ради Аллаха, ты нас разведи,
Пока я уж совсем не лишилась стыда!
Шейху судья сказал:
— Ты слыхал, в каком грехе она тебя обвиняет и какою карою угрожает? Сторонись порока и жену не мучай жестоко — берегись, как бы не поплатиться, если гнев ее огнем разгорится!
Голову шейх перед судьей склонил, и ключ красноречья его забил:
Мудрый кади[320], поверь, что за мной правота —
Пусть вовек не иссякнет твоя доброта!
Я не думал любовь от жены отвращать —
Как и прежде, она в ноем сердце свята!
Но судьба за ударом наносит удар:
Мы лишились всего, и в дому пустота,
Ожерелья жены мне пришлось распродать —
В кандалы заковала меня нищета!
Был я нежен когда-то в любви, как узрит[321],
Страсть во мне возбуждала жены красота,
Но теперь я к ней руку страшусь протянуть,
Как аскет, для которого страсть — суета.
Я пахать бы не прочь, да посеять боюсь:
Сын родителей нищих — нагой сирота!
И за это не надо меня упрекать
Иль корить многословно: причина проста!
Женщина гневом запылала и в ответ закричала:
— Горе тебе, ты, дурья башка! Как от козла, от тебя ни шерсти, ни молока! Так ты оставляешь меня бесплодной, убоявшись смерти голодной?! Но ведь сказано — всякий рот себе пропитание непременно найдет. Потерял ты разум на старости лет: стрелы мечешь, а меткости нет. Притупилось твое соображенье, и стал ты жене доставлять одни огорченья.
Кади сказал ей:
— Ну, говорунья, доведись тебе в споре состязаться с самой Хансой[322], поле битвы осталось бы за тобой. Прославленная онемела бы от изумленья и отказалась бы от словопренья. Но если супруг твой не лгал, говоря, что беден и нищ, — ты коришь его зря, ибо заботы желудка пустого отвлекают его от дела святого.
Женщина молча исподлобья глядела и, как видно, спор продолжать не хотела. Мы подумали: уж не мучится ли она стыдом, что так опозорила свой собственный дом? Тут шейх промолвил, к жене обратись:
— Ты все рассказала, не таясь? Горе тебе, если что-нибудь скрыла или истину исказила!
Жена воскликнула:
— Коль пришли мы на суд, чего же скрывать? Разве осталась у нас хоть на единой тайне печать?! Увы, правдивым был наш рассказ, но позорна правда для нас. Уж лучше нам было бы онеметь, чем такое бесчестье терпеть.
Она завернулась в рваное покрывало, сделав вид, будто слезы горькие проливала и от унижения тяжко страдала. Горести бедных супругов тронули сердце судьи, он от души сокрушался и сетовал на жестокость судьбы. Две тысячи дирхемов он им пожаловал щедрой рукой и произнес:
— Идите, насытьте желудок пустой. Причину размолвок искорените и отныне в любви и согласье живите.
Восславив судью за мудрость решения и щедрость вознаграждения, вышли они за порог и пустились скорей наутек. Когда же скрылись они в отдалении, кади не мог сдержать восхищения — стал хвалить их ум и умение и узнать пожелал их происхождение. И сказал его старший помощник, случившийся тут:
— Этот шейх — Абу Зейд ас-Серуджи, прославленный плут, с ним его верная подружка, а спор их — не более как ловушка. Серуджиец ловко сети обмана плетет, в искусстве своем плута любого он превзойдет.
Разгневался кади, узнав, что стал он жертвой обмана, на помощника, раскрывшего тайну, набросился рьяно и приказал:
— Живее следом за ними иди, старика и красотку назад приведи!
Помощник быстро с места вскочил, грозный вид на себя напустил и помчался вдогонку за беглецами, но вскоре вернулся, разводя в огорченье руками. Кади сказал нетерпеливо:
— Говори скорей, что тебе удалось разузнать, только не вздумай от меня ничего скрывать.
Помощник ответил:
— Обегал я все улицы и переулки, обшарил все закоулки, наконец у городских ворот их настиг — собираясь город покинуть, верблюда седлал старик. Я стал убеждать его сюда вернуться скорее, уверял, что он об этом не пожалеет, но старик не поддался на уговоры и продолжал свои сборы, сказав: «Тот разумен, кто вовремя уйдет. Береженого Аллах бережет!»
А жена настаивала: «Надо рискнуть и назад к судье повернуть. Знай, что трус потом всегда с досады кусает ус». Старик же решил, что глупость ее беспробудна, а смелость ее — безрассудна, ухватил покрепче жену за подол и ей такие стихи прочел:
О жена, неразумны твои возражения!
Ты прими мой совет, не проси объяснения.
Будь как птица: на пальме отведавши фиников,
Улетай — и всегда избегай возвращения,
Даже если хозяин в беспечности сладостной
Охранять забывает свои насаждения.
Умный вор в ту страну возвращаться не вздумает,
Где остались следы от его преступления.
Потом он сказал мне: