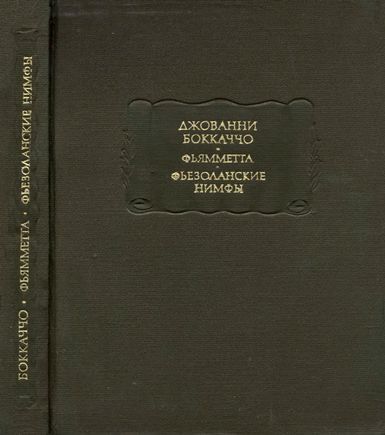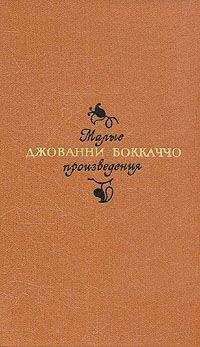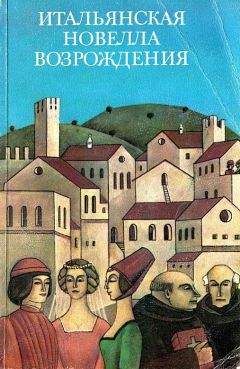что тотчас же не приходило бы к моим услугам. Я была единственным благом и радостью для молодого супруга и любила его не менее, чем им была любима. О, как могла бы я считать себя счастливейшею в мире, когда бы вечно длилась подобная любовь!
В то время, как я в непрерывном празднике проводила счастливую жизнь, — судьба, внезапная рушительница земного благополучия, позавидовала мне за те дары, что сама дала, захотела отдернуть руку и, не зная куда направить яд свой, искусно сумела к глазам моим найти доступ несчастью; и правда, как глаз моих несчастье достигло, так там и пребывает до сих пор. Но боги, еще благостные ко мне и более, чем я сама, пекущиеся о моей судьбе, зная тайные козни, хотели дать оружие моей груди (если б я сумела взять его), чтобы не безоружною я вышла в бой, где пасть мне было суждено, — и ясными виденьями в снах моих в ночь перед днем, когда началась моя гибель, открыли мне будущее следующим образом.
Когда лежала я в глубоком сне на широкой кровати, приснилось мне, будто в прекраснейший, необычайно ясный день я радуюсь, как никогда, сама не знаю почему; и так-то радуясь, одна, среди зеленых трав, хочу я сесть на луг, защищенный от солнечных лучей тенью дерев, одетых молодой листвою; нарвав различных цветов (а ими разукрашено было все то место), белыми руками кладу их в полу одежды, цветок к цветку подбирая; и сделав из отобранных милый веночек, надела его на голову. И так украсясь, поднялась — что Прозерпина { 3 }, когда Плутон ее от матери похитил [6]; так с песней шла я раннею весною; потом, устала что ли, в траву погуще я легла и отдыхала. И так же как Эвридику { 4 } в нежную ногу сокрытая ужалила змея [7], меня, что растянулась на траве, ядовитая, сокрытая змея, казалось, под левую ужалила грудь; не взвидела я света от того укусу, как зубы острые вошли; потом, придя в себя и будто худшего еще боясь, себе на грудь холодную змею я положила, смягчить воображая гнев ее теплом горячей груди. Но змея, моею добротою ободрившись, приникла злою пастью к прежней ране и долго кровь мою пила, пока — так снилось мне — вдруг отклонившись от меня, с груди не соскользнула и не исчезла с моим дыханьем вместе, виясь, виясь по молодой траве. И день, сначала такой солнечный, с исчезновением змеи стал хмуриться, и все небо надо мною покрылось тучами, и следом за ее уходом все как бы смешалось, как будто она потянула за собой множество туч, которые, следуя за нею, облепили небо; и вскоре, как камень белый, что брошен в глубокую воду и словно тает, понемногу исчезая [8], так и она исчезла из глаз моих. Тогда я увидела небо, все закрытое мраком, будто, казалось, солнце затмило и настала ночь, как случилось это у Греков после преступления Атрея [9] { 5 }, и беспорядочные блистания пробегали по небу, и трескучие громы ужасали меня и землю. А рана, доселе одним укусом отмеченная, наполнилась змеиным ядом и, казалось, все тело мое обратила в гнойный нарыв; и я прежде, казалось, не знаю как остававшаяся без дыхания, почувствовав, что яд подступает к сердцу, в тоске предсмертной по свежей траве начала кататься. И смертный час, казалось, уже наступал; страх ужасной грозы и предсмертная боль в сердце так усилились, что потрясли спящее тело и разрушили крепкий сон [10]. Проснувшись, я тотчас (еще в страхе от виденного) схватилась правою рукою за укушенный бок, ища там того, что лишь в будущем ему предназначалось, но найдя его невредимым, развеселилась, успокоилась и начала смеяться над нелепыми снами, не придав значения небесному знамению. Ах я несчастная! Как справедливо, что презревши предзнаменования вначале, потом я им поверила с тяжкой болью и бесполезно плакалась, жалуясь на небеса, что открывают нам так темно, что почти не открывают тайны, которые можно назвать уже свершившимися. Итак, проснувшись, я подняла сонную голову и, увидев, что в комнату сквозь щель вливалось утреннее солнце, — отбросив думы, быстро вскочила.
Тот день был один из самых торжественных дней [11], почему я и оделась тщательно в златотканные одежды и, искусно украсившись, как богини, сошедшие к Парису { 6 }, в долину Иды [12], приготовилась идти на величайший праздник. И меж тем как я, что павлин, собою любовалась, думая понравиться другим не меньше, чем самой себе, — цветок из моего венка, зацепившись за постельный полог, или, быть может, невидимой небесною рукою с головы у меня сорванный, упал на землю, — но я, не заботясь о тайных божеских знаках, как ни в чем не бывало, подняла его, воткнула в волосы и направилась в путь. Увы, какой более ясный знак будущего могли мне дать боги? Конечно, никакого. Этого достаточно было, чтоб показать мне, что с сегодняшнего дня моя свободная и независимая душа, отложив свою власть, должна стать рабою, что и случилось. О если бы я не была безумной, конечно, я узнала бы, что этот день несчастен, и провела бы его не выходя из дому. Но боги, хотя и указывают путь спасенья тем, на кого разгневаны, лишают их должной способности понимать эти знаки, в одно и то же время исполняя свой долг и утоляя гнев свой. Итак, судьба толкнула меня из дому, беззаботную и суетную; в сопровождении многих женщин я не спеша достигла святого храма [13], где уже шла служба, соответствующая празднику.
Вследствие моего благородного происхождения, по старинному обычаю, мне было оставлено достаточно почетное место между другими женщинами; заняв его, я по привычке обвела глазами храм, наполненный мужчинами и женщинами, расположенными разнообразными группами. Не успели во время священной службы заметить, что я вошла в храм, как случилось то, что случалось во все прошлые разы, а именно: не только взоры мужчин обратились ко мне, но даже женщины смотрели на меня, будто никогда ими не виданная Венера или Минерва сошли на то место, где я стояла. Как смеялась я про себя над всем этим, довольная сама собою, гордясь не менее богини! И почти все юноши, перестав смотреть на других женщин, окружили меня, как венком, и, рассуждая о моей красоте, единогласно прославляли ее. Но