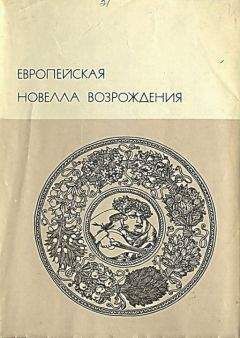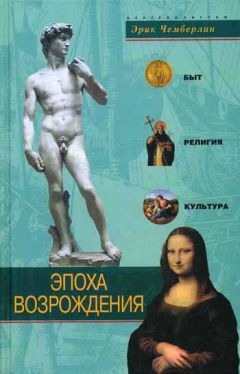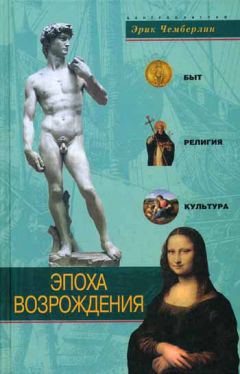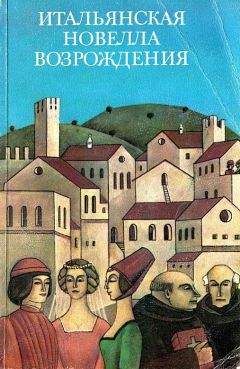Банделло отказался от декамероновского единства. Все новеллы у него обособлены, а общее обрамление заменено развернутыми посланиями-посвящениями к каждой новелле. В них вводится рассказчик и воспроизводится обстановка, в которой была рассказана новелла. В качестве рассказчиков у Банделло фигурируют политические деятели, известные писатели, философы и художники — Макьявелли, Помпонацци, Леонардо да Винчи. Банделло вложил в их уста и фольклорные анекдоты о шуте Гонелле, и истории, вычитанные у античных авторов, и новеллы своих предшественников, а также рассказы о подлинных происшествиях. Последних в «Новеллах» больше всего. К ним принадлежит, например, новелла об Антонио Болонье (часть первая, новелла XXVI), давшая фабулу трагедиям Лопе и Вебстера о герцогине Амальфской.
Эпоха Возрождения порождала в Италии яркие, цельные характеры. Но она не была идилличной. Никто из новеллистов Чинквеченто не показал так убедительно, как Банделло, что его время было кровавым, жестоким веком, когда торжествовали не только сильные страсти, но и железные сердца. В стремлении к воспроизведению хроники современной жизни Банделло в чем-то перекликается с Саккетти, однако, в отличие от новеллиста XIV века, он избегает нравственных и социально-политических оценок изображаемого, поэтому по аналогии с представителями итальянского реалистического течения конца XIX века его иногда именуют «веристом». Банделло явно не одобрял сословных предрассудков братьев герцогини Амальфской, но в его изображении гибели Антон по Болоньи отсутствует трагизм; о ней упоминается как о несчастном случае, которого могло и не быть. Банделло не без основания называл себя писателем «без стиля». Это не значит, конечно, что он писал кое-как. Язык Банделло, ориентированный на речь образованного общества не одной Флоренции, а всей Италии, сближал литературу с новой действительностью. Однако писателем Высокого Ренессанса Банделло уже не назовешь. Отказ Банделло от декамероновского обрамления был вызван не столько желанием воспроизвести эту действительность в ее калейдоскопическом многообразии, сколько утратой гуманистической веры в разумность жизни и в способность человека подчинять ее своей воле. Именно поэтому «верист» Банделло предпочитал рассказывать о «случаях столь странных», что даже ему самому они представлялись «скорее сказками, нежели историями». В его новеллах, недавно еще «божественный», всесторонне развитый герой гуманистов оказывается жертвой или орудием жестокой иррациональности бытия. Для новеллистики Банделло типичен скорее не рассказ о Ромео и Джульетте, который является растянутым пересказом новеллы Луиджи Да Порто, а мрачная история о графине ди Челлан, своеобразная поэзия которой обусловлена необъяснимостью действий ее инфернальной героини.
Внутреннюю целостность «Декамерона» в середине XVI века иногда пытались повторить чисто формально. Несколько позднее «Новелл» Банделло появились «Экатоммити» Джиральди Чинтио, тщательно воспроизводившие внешнюю структуру «Декамерона» и приподнятость его слога. Но, внешне подражая Боккаччо, Джиральди не продолжал его традицию, а полемизировал с ней. Это подчеркивалось и эллинизированным заглавием его книги. Джиральди ставил задачей создать своего рода «Антидекамерон», противопоставив веселому и, как ему казалось, непристойному гуманистическому смеху «ста новелл» Боккаччо контрреформационную благопристойность «ста мифов» «Экатоммити», написанных во славу христианской морали, католической церкви и Тридентского собора. Из книги были изгнаны насмешки над монахами и все «соблазнительные» сцены. «Порок» изображается, но только для того, чтобы быть жестоко наказанным. Почти на каждой странице книги Джиральди льются потоки крови. Автор «Экатоммити» хотел исправлять нравы. Но так как нравственные принципы, на которые он опирался, были ложными и реакционными, ему приходилось устрашать читателей, навязывая им религиозно-моралистические выводы, не вытекающие даже из содержания его же собственных «мифов». Новеллы «Экатоммити» грубо риторичны, отличаются подчеркнутой контрастностью добра и зла, использованием необычных, авантюрных ситуаций, сценами насилия и т. д. В середине XVI века, в результате кризиса возрожденческой идеологии, вызванного как ее собственными внутренними противоречиями, так и развернутым наступлением на гуманизм феодально-католической реакции, в литературе и искусстве Италии появляется маньеризм. Подобно классицизму XVI века, он противостоял классике Высокого Ренессанса, но получил значительно большее распространение, наложив отпечаток и на стиль далеких от контрреформации художников.
Во второй половине XVI века тот маньеризм, который был связан с контрреформацией, нашел продолжение в пресно-моралистической новеллистике Себастьяно Эриццо, напечатавшего в 1567 году обрамленную книгу «Шесть дней», но подавить ренессансную традицию «Декамерона» все-таки не удавалось. Жизнерадостное свободомыслие Возрождения воскресало в чувственности Фортини, в шутках Парабоско, в рационализме Шипионе Баргальи, новеллы которого, правда, перекраивали декамероновские фабулы во многом уже по-барочному.
К второй половине XVI века развитие демократизма ренессансной новеллы оказалось связано не с консервацией ее классического канона, а с отступлением от него, порой даже непреднамеренным, как это было у Джованфранческо Страпаролы. Ни одна из новеллистических книг середины XVI века не пользовалась в Италии такой популярностью, как «Приятные ночи». Вопреки запрещениям церковной цензуры, они переиздавались около пятидесяти раз. Беспрецедентный успех книги Страпаролы объясняется прежде всего необычностью ее содержания. С ней в литературу Возрождения вошла крестьянская волшебная сказка, с ее диалектальными словечками, пословицами и прибаутками, с ее феями, удачливыми дураками и непобедимым народным оптимизмом. Но успех «Ночей» развит не был. Страпарола наткнулся на крестьянскую сказку случайно и не оценил всех заложенных в ней возможностей. Основную часть «Приятных ночей» составили не сказки, а бытовые новеллы, в которых автор тщился подражать все тому же Боккаччо. Главное открытие Страпаролы было понято лишь через восемьдесят лет, когда крестьянская волшебная сказка организовала язык, стиль и художественную структуру «Пентамерона» Джамбаттисты Базиле, этого едва ли не самого яркого прозаика итальянского демократического барокко.
* * *
Французский эквивалент слова «новелла» — «нувель» — как термин, обозначающий литературный жанр, возник, несомненно, под итальянским влиянием, хотя то, что затем стало новеллой, родилось во Франции, на тесных улочках ее средневековых городов, раньше итальянской новеллы и передало ей свой повествовательный опыт. Это были смешные и поучительные повествования в стихах — «фаблио». Их восьмисложный стих с парной рифмой не считался тогда поэзией. Когда иной художественной прозы не было, он был «прозой». «Поэзия» же средневековья знала многообразную метрику, сложную строфику, изысканную образность и, естественно, совсем иную тематику.
В романе и рыцарской повести исключительность героев подана была на некоем нейтральном фоне повседневной жизни. В фаблио исключительность иная, это — исключительность наизнанку. Вместо небывалой смелости, неподкупной верности, всепреодолевающей любви романа в фаблио мы находим редкостную глупость, невообразимую жадность или похотливость. Хотя в куртуазном романе происходили события необычайные, для простолюдина они не могли быть «новостью», ибо новость — в обиходном бюргерском или крестьянском понимании — предполагала и конкретное место, и вполне определенное время, и реальных участников события. Стремление к правдивости, понимаемой довольно упрощенно, типично и для фаблио, и для ранней новеллы. Фантастика появится в новелле позднее и укажет на сложность и развитость литературного процесса.
Однако бытописательство еще не делало новеллу возрожденческой. Ей потребовался еще и гуманизм — и как определенного рода ученость, и как специфический — широкий и свободный — взгляд на человека и его земные дела. Пришло это не сразу, и французская новелла проделала за первые сто лет своего существования большой путь.
У его начала стоит анонимный сборник «Пятнадцать радостей брака», возникший, по-видимому, в первой трети XV века. По тематике книга примыкает к средневековой антифеминистской литературе, но это не столько инвектива в адрес слабого пола, сколько собрание забавных историй о проделках коварных жен и об их легковерных мужьях. По всем новеллам разбросаны черточки, скупо, но точно характеризующие быт западноевропейского города на исходе средневековья. Автор проводит читателя по всем кругам семейного ада: тут и ожесточенные перебранки со сварливой женой, и беготня по лавочкам в поисках заморских лакомств, и скитания по заимодавцам, чтобы достать деньги на новое платье жене. Наполняют книгу и нападки на монахов, которые либо просто склоняют женщин к распутству, либо внушают им неуважение к мужьям.