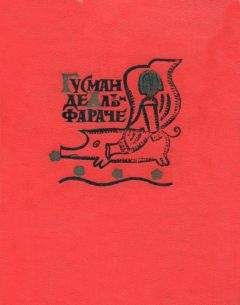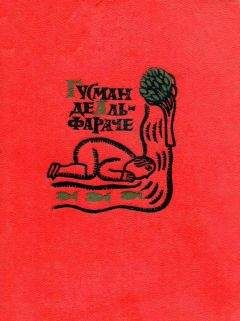Почитаю своим долгом упомянуть и о заботах моей любезной, ибо каждый божий день на меня сыпалась из ее рук манна небесная. Одна она была мне опорой, снабжала всем, в чем я нуждался. В самые черные дни, когда меня уже приговорили к галерам, она прислала письмецо, которое я охотно приведу здесь как ради приятности слога, так и потому, что не худо порой ослабить тетиву и рассказать что-нибудь забавное. Письмо было составлено в следующих выражениях:
«Дражайший мой каторжник! Пусть твоя доля не огорчает тебя, будь бодр и весел. Довольно и того, душа моя, что я о тебе печалюсь с самого дня святого Иакова, когда в два часа пополудни, во время сьесты, тебя схватили эти изверги, не дав и выспаться всласть. А нынче я того пуще опечалилась, как услыхала, что судья приговорил тебя к двум сотням плетей и к десяти годам галер.
Чтоб его самого господь плетьми наградил и на галеры упек! Вижу, не любит он тебя так, как я, не знает, как дорого ты мне обходишься. Хулиана советует тебе немедля подать на обжалование. Подавай хоть двадцать жалоб, хоть больше, сколько пожелаешь, но главное, не тревожься — все уладится по милости господа бога и треклятого судьи.
И то уж хорошо, что не придется тебе пробыть там до конца дней. Клянусь мулатским своим лицом, попомнит судья все слезы, пролитые по его вине, а пролила я их столько, что чуть не выдала себя всем домашним, и, наверно, выдала бы, если бы не боялась ослепнуть от слез и навек потерять надежду свидеться с тобой. Право слово, теперь я ценю тебя на вес своих слез, и хоть ногтями, а выцарапаю из этой кутузки, где вместе с тобой в цепях томится моя душа.
Хулиана тебе скажет, сколько волос я вырвала на голове, как услышала о приговоре. Она передаст тебе двадцать реалов на ведение дела и развлечения, чтобы помнил обо мне. Знаю, такие памятки тебе и не нужны — когда я, бывало, покидала тебя на минутку, чтобы подбросить угля в печь, эта минута казалась тебе вечностью. Помни, любезный мой узник, что я тебя обожаю, и возьми эту зеленую ленту в знак надежды, что глаза мои скоро узрят тебя свободным.
А ежели для твоих нужд понадобится продать меня, ставь хоть сейчас мне клеймо на обе щеки и выводи на Градас — почту это за величайшее блаженство. Ты говоришь, что Сото, товарищ твой, занемог после того, как палач, изрядно потешившись над ним, вынудил его запеть. Очень мне жаль, что сей достойный человек позволил ничтожной и гнусной твари взять над ним верх и выболтал со страху свои и чужие тайны.
Передай ему мой привет, хоть мы незнакомы, и скажи, что я болею за него душой, да поделись с ним этим вареньем, которое я приберегла для тебя, счастье мое. Завтра у нас пекут, и я состряпаю тебе такой пирог, что не стыдно будет угостить товарищей. Пришли мне грязное белье и, смотри, — каждый день надевай чистое. Хоть руки мои не могут тебя обнять, они неустанно трудятся, дабы во всем тебе угодить.
Хозяйка клянется, что тебя повесят; говорит, ты ее обокрал. Сама она обкрадывала, а кого, ты знаешь, — умный поймет без долгих слов. Ежели Гомес, наш эскудеро, придет тебя проведать, держи язык за зубами — это человек двуличный, ко всем подлизывается и отца родного продаст.
Ну, кажется, обо всем упомянула, больше писать нечего, а посему кончаю письмо, но не мольбы мои к господу, да сохранит он тебя и вызволит из темницы.
Писано в твоей комнате, в одиннадцать часов вечера, в думах о тебе, счастье мое. Твоя раба до гроба».
Моя мулатка держалась стойко в это трудное время. Но расходы были велики; хоть накопила она немало, все растаяло, как соль в воде. А матушка, видя, что дела мои плохи, заявила, что ее ограбили; верно, решила прикарманить мой капиталец. Пришлось смириться и ждать своей участи, как все ждали.
Меж тем дело шло своим чередом. На искусного адвоката не хватило денег. Подкупить писца тоже было нечем. Судья был зол, а стряпчий на суде спал. Что ж до ходатая — его и след простыл. Лимон-то давно был выжат. Наконец эти слепни удалились на совещание. Я остался один. Приговор, разумеется, был по всем правилам — публичное наказание плетьми и шесть лет галер.
Услыхав, что приговор без права обжалования, окончательный, я с прежним притворством тоже покончил. Новую роль я играл без страха и стыда — теперь, как слуга самого короля, я никого не боялся. Немалым утешением было мне то, что моему дружку Сото вынесли такой же приговор и мы с ним попали в один котел. В тюрьме мы сидели в одной камере, участь наша была одинакова, и, пожелай он сохранить дружбу, нам обоим было бы лучше, но, как вскоре увидишь, он оказался подлецом.
Этот парень был не дурак выпить. Чувствовал он себя хорошо, лишь глядя на свет божий de profundis[173] кувшина в пол-асумбры. Это и сгубило его во время пытки. Нагрузив трюм, он без особых приглашений запел при первых же поворотах колеса.
После суда мне уже не от кого было ждать помощи и избавления, решил я сам попытать счастья; но мне, как всегда, не повезло, а впрочем, удача была бы чудом.
Две недели я притворялся больным: не выходил из камеры, даже не вставал с постели; за это время я раздобыл женскую одежду. Ножом я соскреб бороду, натянул платье, надел чепец, подбелил и нарумянил лицо и, как стемнело, вышел из камеры. Я благополучно миновал обе двери верхнего этажа: ни один из стражей не окликнул меня, хоть у обоих зрение было отличное и глаза здоровые. Но когда я спустился вниз и, подойдя к выходу на улицу, хотел уже переступить порог, мне преградил дорогу привратник, кривой на один глаз, — чтоб ему и на другой окриветь! Он остановил меня, внимательно оглядел и, обнаружив обман, захлопнул дверь.
При мне была на всякий случай короткая шпага. К несчастью, я вытащил ее слишком поздно и не успел пустить в ход. Попытка к побегу стала отягчающим обстоятельством. Меня вернули в кандальную и, возбудив новое дело, осудили на галеры пожизненно. Спасибо еще, что не провели по городу в женском платье, как бывало с другими! От одной беды бежал, в горшую попал!
ГЛАВА VIII
Гусмана де Альфараче ведут из севильской тюрьмы в порт. Он рассказывает о том, что произошло с ним по дороге и на галере
И вот я галерник, к тому же пожизненно — тут уж никуда не денешься, придется ладить с собратьями по судьбе, помогать им в трудах и зарабатывать свою долю харчей. Я пристал к компании отпетых, которым сам черт не брат. Вырядился, как они, в белые панталоны, цветные чулки, кафтан с разрезами и повязал голову косынкой — все это прислала моя любезная в надежде, что черные дни минуют и я еще выйду на волю.
Кое-что получая от нее и взимая налог с новеньких, я жил в тюрьме хорошо, можно сказать, безбожно хорошо. Ибо иначе как безбожной не назовешь жизнь таких, как я, молодчиков, когда они попадают в это заведение. Оливкового масла имел вволю, ссужал деньги под залог, получая с одного реала четверть реала в день. Обжуливал новоприбывших, подстраивал им «змей», приклеивал зажженные огарки к подошвам и напускал дыму в нос. В тюрьме хоть и знают, что есть бог, но страха божьего не знают. Тамошний народ, точно нехристи, не почитает господа. Большей частью горестная сия доля постигает людей тупых, неотесанных, свирепых, а таких, как я, — редко, по великому невезению. Сам господь помрачает их разум, дабы сим путем они пришли к познанию своего греха, а когда прозреют, дабы служили всевышнему во спасение души своей.
В мои времена был в севильской тюрьме один преступник, которого приговорили к смерти и перед казнью поместили на ночь в лазарет. Увидав, что его стражи играют в терсио[174], он встал со скамьи и, гремя кандалами, волоча цепь, с трудом приблизился к ним. Стражи спросили, куда он собрался. «Да к вам иду, — ответил он, — немного развлечься». Стражи сказали, что лучше бы ему теперь помолиться и препоручить душу господу. «Я уже прочел все молитвы, какие знаю, — возразил он, — и теперь мне нечего делать. Тасуйте карты, сдавайте поскорей, да пусть несут вина, чтобы залить кручину».
Ему заметили, что время позднее, кабачок закрыт, «Скажите хозяину, — заявил он, — что вино для меня. Ни слова больше, давайте играть. Клянусь Христом, и думать не желаю, что дальше со мной будет».
Все там пляшут под эту музыку. Иные перед казнью требуют цирюльника, чтобы побрил их и подстриг; они желают появиться перед обществом в пристойном виде, даже заказывают себе новенький плоеный воротник, будто в нем и в лихо закрученных усах — спасение их души. И как пища, по мнению философов, влияет на человеческое естество и его свойства, так же действует на нас и общение с людьми. Отсюда и пошла поговорка: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты».
Я быстро перенял тюремные обычаи, сдуру даже чуть не взял в аренду один из тюремных кабачков; но, опасаясь внезапной отправки, вследствие которой мог бы все потерять, отказался, слава богу, от этого намерения. Набралось нас там двадцать шесть галерников, тюрьма от нас ходуном ходила, и алькайд боялся, как бы мы не взбунтовались и не сбежали, а потому постарался поскорей от нас избавиться.