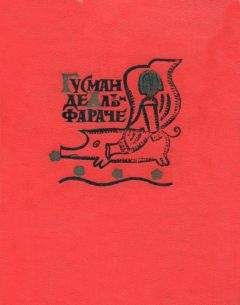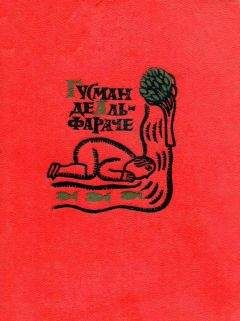Досадно мне было, что мы оказались так близко. С того происшествия мы друг друга терпеть не могли; особливо Сото; человек злопамятный, он стал моим заклятым врагом. Сам я не прочь был помириться и, будь в том нужда, охотно бы помог бывшему другу. Но нет, ему, видите ли, хотелось, чтобы не комиссар, а он завладел свертками. Так бы и получилось, да не стерпел я такой гнусной неблагодарности.
Когда нас рассаживали по скамьям, галерники приветствовали меня возгласом: «Добро пожаловать!» — но, ей-ей, куда приятней было бы услышать от них: «Прощайте!» Выдали мне казенную робу: две сорочки, две пары холщовых панталон, пеструю душегрейку, грубошерстную куртку и цветной колпак. Явился цирюльник. Он обрил мне голову и лицо, чему я сильно огорчился, ибо своей бородой весьма дорожил; но, подумав о том, что так положено и что иным доводится падать и с бо́льших высот, утешился. Я положил глядеть не на тех, кто впереди, а на тех, кто сзади. Есть ли что горше участи галерника? И все же она показалась мне сносной в сравнении с первым моим браком, и я смирился, видя, как много народу терпит сию муку.
Тут подошел ко мне помощник альгвасила и, надев кандалы на руки и на ноги, прикрепил к общей цепи. Я получил дневной паек — двадцать шесть унций галет. В этот день полагался приварок, и мне, как новичку, у которого еще не было своей чашки, баланду налили в чашку соседа. Не захотел я макать туда свои галеты, съел их всухомятку; так поступал и впредь, пока не обзавелся собственной утварью. Работы сперва было немного; галеры перед отплытием конопатили и смолили, и нам всего только дела было, что наваливаться, как прикажут, то на один борт, то на другой, чтобы смола не растопилась от солнца.
Казенную одежду я тут же сплавил и выручку приложил к деньгам, накопленным в тюрьме. Да вот беда, — где и как спрятать понадежней, чтобы на черный день сберечь, либо с прибылью в оборот пустить? Не было у меня ни сундучка, ни ящичка, ни шкатулки, и я никак не мог придумать, куда с этими деньгами деваться.
Держать их при себе я боялся, народ кругом ненадежный; отдать на хранение тоже не хотел, по опыту знал, чем это пахнет. Что делать? Раскинув умом, я решил, что лучшего места, чем на груди, поближе к сердцу, для денег не сыскать. Иные помещают сердце там, где пребывает их сокровище, я же поступил наоборот. Раздобыл нитки, иголку и наперсток, приладил кармашек в душегрейке, зашил в нем деньги и поместил их поближе к телу, подальше от глаз завидущих да рук загребущих. Особенно донимал меня один сосед по скамье, вор первостатейный; от этого молодчика и темной ночью нелегко было уберечься. Лишь заметит, что я сплю, тотчас принимается ощупывать меня; сокровища мои были невелики, все хранилось в одном месте, и добраться до них не составляло большого труда.
Он обшарил мою сумку, куртку и панталоны, а под конец принялся за душегрейку, где и впрямь находилось то, что согревает душу и животворит кровь. Негодяю до смерти хотелось обокрасть меня, но я не зевал. Когда приходилось снимать душегрейку, я подкладывал ее под себя, так что унести ее можно было только со мной вместе. Эта забота долго не давала мне покоя, пока я не рассудил, что смертному, где бы он ни находился, не обойтись без ангела хранителя. Начал я высматривать себе такового и, обмозговав дело, почел за наилучшее сговориться с надсмотрщиком, прямым моим патроном. Разумеется, верховным нашим владыкой был капитан, но он пребывал слишком высоко и не якшался с колодниками. В капитаны назначают людей знатных, благородных, которые не вникают в дрязги галерников и плохо знают своих подопечных. К тому же будка надсмотрщика находилась возле моей скамьи, мне легче было подольститься к нему, а в его руках и плеть и власть.
Стал я втираться в доверие к надсмотрщику, пядь за пядью продвигаясь вперед и оттесняя других: прислуживал за столом, прибирал постель, смотрел, чтобы белье у него было всегда чистое и выглаженное. Через несколько дней он уже сам искал меня глазами. Каждый такой благосклонный взгляд я почитал за великую милость, за некую буллу или индульгенцию, избавляющую от плетей; этот взгляд, казалось, снимал с меня и вину и кару.
Но все это было не так просто; на должность надсмотрщика подбирают людей свирепого нрава, которые замечают человека только тогда, когда надо его наказать, но отнюдь не облагодетельствовать. Признательности от них не жди, все и без того обязаны им угождать. По вечерам я вычесывал надсмотрщику перхоть, растирал ноги, отгонял мух; и князьям не служат усердней, ибо князю угождают из любви, а надсмотрщику — из страха перед плетью-трехвосткой, которую он не выпускает из рук. Спору нет, служба эта не так возвышенна и благородна, зато усердия и страха куда больше.
Когда надсмотрщику не спалось, я развлекал его разными историями и занятными побасенками. Всегда у меня были наготове шуточки, и, заметив улыбку на его лице, я ликовал. Мне повезло, старания мои не пропали даром; вскоре надсмотрщик уже никому, кроме меня, не разрешал ему прислуживать. Еще и потому он меня отличил, что перед глазами у него был другой галерник, который услужал ему прежде. Этот парень, несмотря на милостивое обхождение, день ото дня тощал и хирел, — просто жаль было смотреть, — хоть жилось ему сытней, чем остальным: надсмотрщик оделял его лакомыми кусочками со своего стола. Но, видно, не в коня был корм; есть, говорят, такие жеребцы, гаэтской породы, — чем больше едят, тем меньше от них толку.
Однажды вечером, когда мы оба прислуживали за столом, надсмотрщик сказал мне:
— Ты, Гусман, человек ученый и толковый. Может, объяснишь, почему Фермин прибыл на галеру здоровый и толстый, а как взял я его к себе в услужение и делюсь с ним каждым куском, он только чахнет.
Я сказал:
— Чтобы ответить на ваш вопрос, сеньор, придется рассказать другой похожий случай, происшедший с одним новообращенным христианином, человеком богатым, уважаемым, но чуточку мнительным. Проживал он в своем поместье, наслаждаясь изобилием и роскошью, был весел и доволен судьбой, как вдруг рядом с ним поселился инквизитор, и от одного этого соседства бедняга вскорости так спал с тела, что стал похож на скелет. Оба сии случая я поясню вам одним истинным происшествием, суть коего в следующем.
У Мулея Альмансора[175], короля Гранады, был весьма любимый им вельможа, алькайд Буферис, каковой благоразумием, честностью и усердием, а также многими иными достоинствами по праву снискал высокую сию честь. Король так любил Буфериса и так доверял ему, что не было трудного дела, которое верный слуга не взялся бы совершить в угоду государю. И так как людям, монаршьей милости удостоенным, всегда сопутствует зависть недостойных, нашелся царедворец, который, слыша, как Буферис уверяет короля в своей безграничной преданности, сказал: «Государь, если хочешь убедиться, что усердие твоего алькайда отнюдь не столь велико, как ты полагаешь, испытай его в каком-либо поистине трудном деле; лишь тогда сможешь ты судить, так ли он любит тебя, как утверждает».
Обрадовавшись совету, король сказал: «Прекрасно, я задам ему задачу не только трудную, но попросту невозможную». И, позвав Буфериса, молвил: «Алькайд, я намерен возложить на вас дело, которое вам надлежит исполнить под страхом моей немилости. Даю вам доброго жирного барана, возьмите его, кормите досыта и даже больше, если захочет, а через месяц верните мне его тощим».
Бедняга мавр, чьим единственным желанием было угодить повелителю, почти не надеялся решить столь неслыханную задачу, однако не пал духом и, взяв барана, велел отвести его к себе домой, как было наказано. Стал он думать, как исполнить волю короля, и размышлял до тех пор, пока не нашел естественный и простой выход.
Он велел сколотить из прочных брусьев две клетки одинакового размера и, поставив их рядом, в одну поместил барана, а в другую волка. Барану задавали положенный корм полностью, а волка кормили так скудно, что он, вечно голодный, то и дело просовывал лапу меж брусьев, пытаясь добраться до барана, вытащить его из клетки и сожрать.
И хотя баран съедал все, что ему давали, он был так напуган соседством своего врага, что корм не шел ему впрок: баран не то что не разжирел, но стал кожа да кости. В таком виде алькайд и возвратил его королю, в точности выполнив приказ, и остался по-прежнему в почете и милости.
История сия поясняет, почему Фермин отощал, несмотря на ласковое обхождение: он так трепещет пред вашей милостью, боясь не угодить, что страх мешает ему жиреть.
Надсмотрщик пришел в восхищение от столь уместно рассказанной истории; он тут же велел пересадить меня на другую скамью и, зная мое усердие, определил своим слугой, поручив надзор за его столом и платьем. Милость эта, весьма для меня значительная, не освобождала от прочих обязанностей каторжника и положенных на галере работ, но я самовольно перестал их исполнять. «Пока не тянут силком, — думал я, — поживу в свое удовольствие».