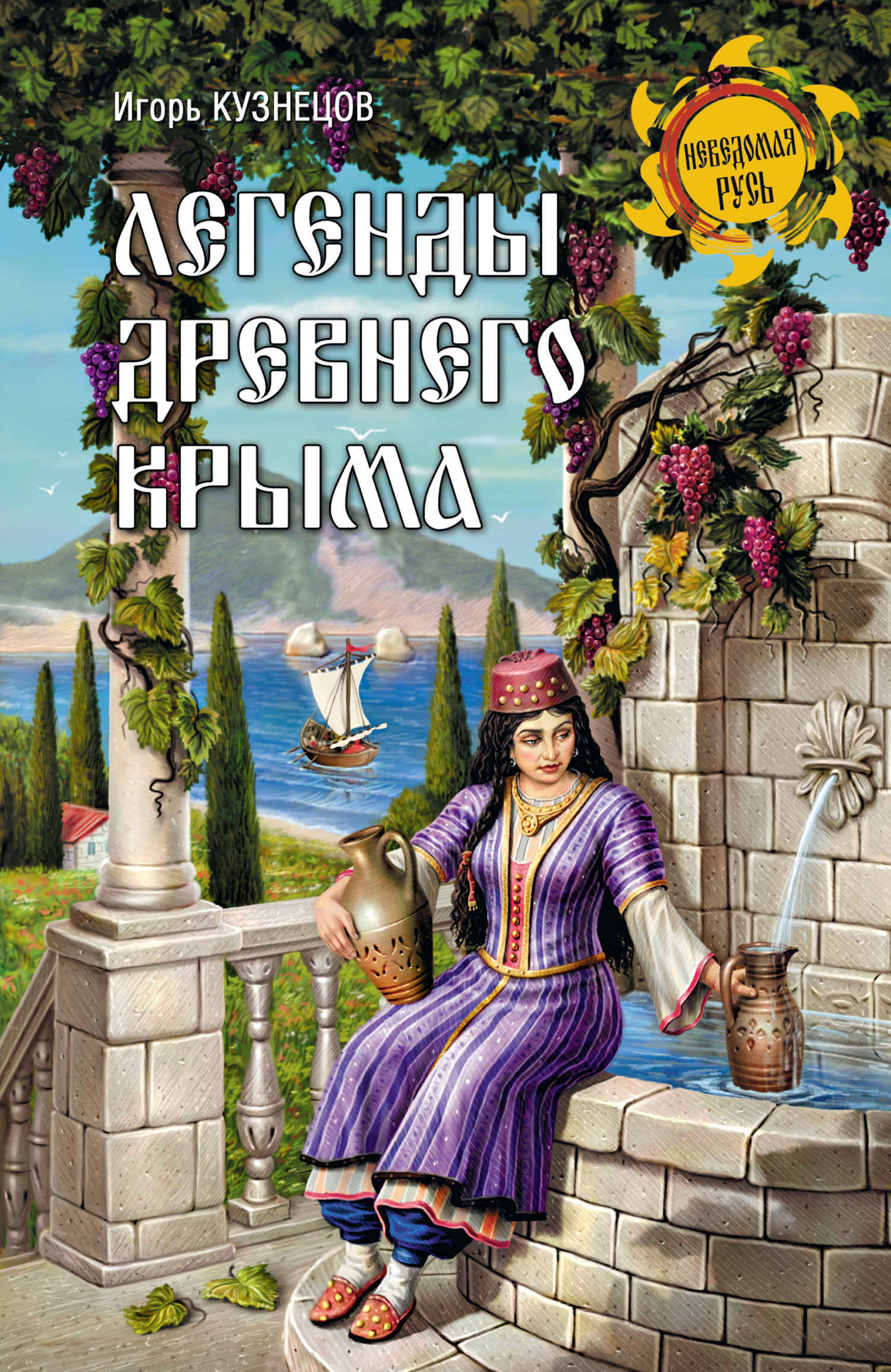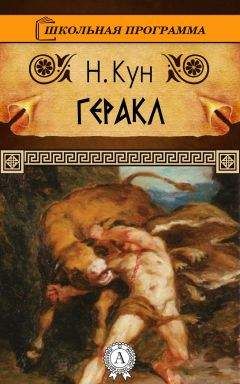стояли на берегу и смотрели в море, где воздавалось возмездие тем, кто нажился на слезах и страданиях народа.
Вечером, одевшись желтыми парусами, корабль Амет-аги покинул опасный берег. А вслед ему неслись стоны и проклятия ограбленных, обездоленных людей.
Опасаясь людского гнева, Амет-ага торопился в открытое море и не подозревал, что его там ожидает. Он не видел, как небо нахмурило свои большие тучи-брови, как вспенилось, негодуя море. Он понял все только тогда, когда грянул гром и корабль, словно подбитую птицу, бросило с волны на волну, когда ветер запел в мачтах, предвещая беглецам гибель в морской пучине.
В оглушительном реве волн не слышно было воплей утопающих. И лишь когда молния разрезала черный покров неба и на миг осветила бушующее море, на его поверхности плавали обломки корабля. Ни жестокого Амет-аги, ни его злой жены Ходжавы, ни многочисленных сундуков с драгоценностями как не бывало.
Прогнали русские турок из Крыма, освободили от вековечного ига живущих там людей. Пришли однажды люди к морю и увидели: в лучах восходящего солнца песчаный берег блестел, будто его усеяли золотыми монетами.
– Смотрите, что это? – спросили люди друг у друга. – А ведь раньше мы такого не видели, раньше такого не было.
Из толпы вышел мудрый старик и ответил всем:
– Да, действительно, раньше такого не было. Это море возвратило нам богатства, отнятые у нас Амет-агой. Море размельчило драгоценности на крохотные крупинки и пересыпало ими песок. Оттого он и блестит, как золотой.
С тех пор люди и называют этот берег не иначе как «Золотой берег».
(«Легенды Крыма»)
Кошка, когда крадется, чтобы поймать птицу, не так была хищна, как Назлы – дочь Решеида.
Ах, Решеид, Решеид, Аллах знает, как наказать человека.
В Демерджи боялись Решеида. Злой был человек, злой и хищный, как старая лисица. Тихо говорил; балдан татлы – сахарное слово знал, улыбался, придумывая человеку обиду.
Пошла Назлы в отца. Ласкалась, хвалила его; распускалось у отца сердце, как благоухающая роза.
Тогда дергала Назлы отца за бороду, царапала, кусала его и убегала в жасмин. Не достанет ее там отец.
– Хи!
Скрывал Решеид от людей свое горе и по-прежнему был важен, когда на улице ему кланялись и свои, и чужие.
На много верст кругом знали Решеида. От Демерджи до Алушты тянулись его сады, а тратил на себя меньше, чем слепой Мустафа.
Напрасно все это, Решеид-ага. Умрет богач, не больше останется, чем от бедного.
Ехал Решеид из Алушты, продал хахылгана.
Если побить больного по спине и потом продать белого петуха – хахылгана, то, когда начнут зеленеть деревья, вся твоя болезнь перейдет к другому, кому продал хахылгана.
Болел у Решеида живот, теперь больше не будет болеть.
Шла дорога в гору. Устали лошади бежать, устал Сейтар погонять.
– Айда, Сейтар, – сердился Решеид.
Не свои были лошади, чужих нанял, нечего было жалеть.
Смотрел Решеид-ага на свой сад, приятно было.
Миндаль оделся листьями, другие деревья были в цвету.
Думал Решеид: «Кто-нибудь двадцать тысяч даст, опять не отдам».
Оглянулся. Высоко поднялись. Синее море, как стена стало. Красиво было смотреть. Только не подумал об этом Решеид-ага, о другом думал.
– Как много добра даром пропадает. Когда кушают люди, сколько сала на тазу остается…
Мяукнула у плетня кэдэ, кошка.
– Отчего кэдэ эти, например, нельзя есть? Ну, сам не ешь, гостей можно накормить. Прибавить курдюку – хороший пилав будет.
Приехал домой, рассказал Назлы, что думал по дороге.
Смеялась Назлы.
– Вот хорошо. Непременно сделаем так. Соберем соседских кошек. Сама резать буду. Позовем гостей из Шумы!
Рад был Решеид посмеяться над шуминцами.
Давно хотел их наказать за то, что не продали ему леса.
– Сделаем. Только смотри, никому не говори.
Пропала кошка у одного, у другого. Мало ли куда могла забежать. Не удивились.
Удивились, что Решеид-ага гостей из Шумы позвал, всех, кто бороду запустил.
– Недаром.
Подала Назлы плов. Дымился рис, только немножко неприятный запах был. Точно кошка близко ночевала.
Однако шуминцы ели, некоторые даже хвалили.
– А отчего ты сам не ешь? – угощала Назлы отца. – Попробовал бы, как я приготовила.
Отплюнулся в сторону Решеид, смолчал.
А шуминцы хвалили.
– Хорошая хозяйка у тебя дочь, ох хорошая, в тебя вся пошла.
И много еще другого говорили хозяину.
Только икнул один, и показалось ему, что в животе у него мяукнула кошка.
Слышали другие, подумали:
– Обрадовался человек, что в гостях объелся.
Однако, когда на ночь вернулись в Шумы, не у одного, у всех замяукало в животе.
Не спали всю ночь, мучились, точно кто царапал внутри.
А старый Асан чуть не умер.
– Да что ты, кошку, что ли, съел, – сердился на него сын, потому что тот не давал ему спать.
И подумал Асан: не посмеялся ли в самом деле над ними Решеид-ага, не накормил ли дрянью?
А наутро вся деревня узнала, что накормил Решеид-ага людей пилавом из кэдэ.
Шли мимо два демерджинца и посмеялись над глупостью шуминцев.
Обрадовались, кошатины наелись. Мяу, мяу!
И стало от всех шуминцев после этих слов пахнуть кошками. И через месяц, и через год, и через десять лет, и даже теперь не прошло. Если едешь мимо Шумы – слышишь кошку.
Может быть, что и прибавил; не прибавишь – хорошо не расскажешь, артмасы – ганиме.
Только одно правда. Если проезжаешь по шоссе, не дай Бог сказать «мяу». Лучше молчи.
Хорошо, если тебя обругают или плюнут, случится топор, и топор вдогонку полетит. А не веришь – испытай сам. Крикни, проезжая, «мяу».
Посмотришь, что выйдет.
(Из собрания Н. Маркса)
На морском побережье в четырнадцати верстах от Алушты жил честный рыбак с добродетельною женою. Это были чрезвычайно кроткие и хорошие люди. Их ветхая хижина всегда был открыта для путников, которые находили в ней приют и ночлег. А бедные вдовы и дети-сироты получали здесь не только пищу, но и слова ласки и утешения.
Что и говорить, окрестные жители глубоко уважали рыбака и его жену. Добрая слава шла о них по Крыму. А рядом с доброй шла слава худая – о детях этих честных людей, о трех дочерях родных.
Старшую дочь звали Тополиной. На вид она была безобразной, маленького роста, неуклюжая. А по характеру – злая-презлая. Чтобы досадить соседям, она взбиралась на крыши, подслушивала чужие тайны, а потом разглашала их по всему побережью. Но всего ужасней было в ней то, что она день