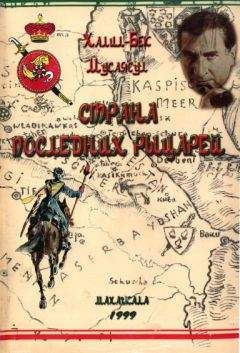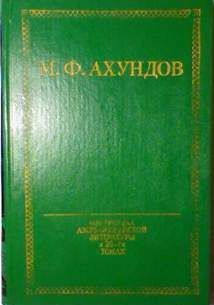Таким был удивительный конец народного героя Зелим-хана. Обеспокоенной тете Мури вскоре после этого пришлось отпустить Алтая для участия в таких событиях, которые были гораздо опаснее и важнее, чем борьба со всеми разбойниками наших гор, так как началась большая война.
Меня тогда не было дома, я поехал с разрешения Мохамы в первую поездку по миру, а именно в Германию. Приехав в Мюнхен и поступив здесь в художественную академию, я только начал привыкать к чужбине, как вдруг в мире начались такие потрясения, что я вынужден был вновь вернуться домой. Вместе со многими русскими я выехал морем из Англии в Архангельск. Это была очень тревожная поездка, так как в любое время корабль мог столкнуться с миной и уйти на дно, как это ежедневно происходило с другими судами.
Я был слишком молод, чтобы серьезно задумываться об опасности, угрожающей моей жизни. Ведь я вырос в таком мире, где мысли о борьбе, смерти и вооруженном сопротивлении постоянно носились в воздухе, и поэтому овладевшее всеми умами слово «война» не было для меня чем-то ужасным и пугающе незнакомым, как для жителей Западной Европы, а скорее связывалось с понятием бесчеловечности. На то, что мои спутники говорили только об этом, я уже не обращал внимания. Если женщины делились своими страхами и опасениями, то это было свойственно их натуре, к тому же они не переставали вечерами краситься и кружиться под звуки веселой музыки, так что в целом на нашем красивом большом корабле было весело и интересно.
Однажды ночью — где-то между Северным мысом и Архангельском — я лежал в своей каюте, и мне приснилось, что я приехал домой. Я встретил Бари, младшего брата, спросил его, не ранен ли Мохама в сражении? Да, кивнул он, это действительно произошло, но не только с ним, но и с двоюродным братом Алтаем. Потом я вдруг в страхе спросил о Абдул-Заире, третьем брате. Он очень болен и ушел, чтобы отдохнуть, ответил Бари и отвел глаза, в которых я заметил слезы. И тут он признался, что Заир уже давно умер, еще до начала войны, но никто не захотел мне об этом писать на чужбину. Меня охватил сильный страх, я проснулся, и беспокойные мысли о Заире больше не покидали меня, пока мы, вопреки всем опасениям, не добрались до Архангельска, и пока я после долгой девятидневной поездки не прибыл поездом в Петровск {60}.
Тут меня ожидал Бари с несколькими земляками. Как только я увидел его лицо, мне стало ясно, что мой сон оказался правдой, и все, что он отвечал на мои вопросы, почти слово в слово было повторением нашего разговора во сне. Моего веселого и приветливого брата Заира все любили за его доброту и красивый голос. И мне с ним бывало так легко и хорошо! И вот уже его нет с нами.
Он был юнкером Александровского военного училища в Москве. Но перед самым получением офицерского чина, на торжественном вечере, где он неутомимо танцевал лезгинку, ему внезапно стало плохо, и его отвезли в больницу, а на следующий день он скончался от аппендицита, обнаруженного слишком поздно. После этого его тело перевезли из Москвы сначала в Петровск, затем в Темир-Хан-Шуру, откуда его из аула в аул до самого Чоха друзья несли на плечах. Траурную процессию всюду встречали с глубокой печалью, так как все, кто знал Заира, любили его за веселый нрав и восхищались им, потому что он так красиво пел и танцевал. Вот так ушел Заир к своим отцам, а ведь ему было всего 21 год.
Когда я после встречи с Бари направился в Чох и, наконец, спешился во дворе нашего дома и после долгого отсутствия перешагнул родной порог, навстречу мне вышла сестра Айшат, взяла мою руку и обняла за плечо. Она держала траур по Заиру, но в ее черном платье не было для меня ничего необычного, так как из-за большого тухума, увеличивавшегося за счет женитьб и замужеств, всегда было по кому его носить, и поэтому я редко видел наших женщин одетыми в другие цвета. Чтобы еще раз, вместе со мной, вспомнить ушедшего от нас брата, к нам пришли плакальщицы, а затем мы все вместе посетили его могилу.
Айшат была безмерно счастлива, что я вернулся домой, ведь когда мужчины покидают горы и едут на чужбину, они редко возвращаются обратно живыми. И женщины свыкаются с этой мыслью, и поэтому они ухаживали за мной и баловали меня так, будто Аллах прислал им меня в качестве подарка. Когда я в первую ночь, сразу после доверительных бесед с близкими, уснул в своей постели, мне приснился сон. Я увидел Заира и спросил у него, действительно ли он умер. «Это ты говоришь, брат,— ответил он мне,— но мне разрешили увидеть тебя. Хорошо, что все так произошло. Только вот лежу я неправильно и неудобно».— «Тебе тесна твоя могила, Заир? — воскликнул я и испугался.— Скажи, чтобы я мог тебе помочь!» — «Не очень узка, но неудобна. Есть что-то, что мне мешает, брат!» — вздохнул он, уходя. Тут я проснулся и, услышав пение муэдзина, встал и помолился, потому что сны, увиденные перед утренним пробуждением, более значимы, чем остальные. Чуть позже пришла Хади, чтобы растопить камин. Пока она складывала дрова и разжигала огонь, я рассказал ей свой сон. Она очень испугалась и побежала тут же к Аминат, толковательнице снов, жене Шарапилава, бывшего нукера, а теперь нашего соседа. «Это джинн ему мешает,— сказала она сразу без тени сомнения.— Это неправильно, что ему отказывают в том, что ему давно причитается. Поэтому он немилостив к вам и мучает умершего».
Сказанное ею можно объяснить так: еще с дедовских времен в нашем доме обитал домовой, приносивший достаток и охранявший в прохладных каменных подвалах сказочный горшок с золотом, который я, несмотря на все поиски, так и не смог найти. Каждую неделю по пятницам в подвале на один и тот же камень доброму духу ставили хлеб и мед в качестве пожертвования, но в последние годы обычай был забыт, потому что братья не верили в домового и запретили подношение даров, которые, несмотря на все запоры и замки, каждый раз находили съеденными. Легенда гласила, что джинн похож на овна с золотой шерстью, но когда Айшат увидела его однажды под сумеречными сводами, то была поражена, потому что ей он явился в образе петуха, но с золотой бараньей головой, по которой она его легко узнала и не очень испугалась. Айшат была наивная, простая душа, которая не осмелилась бы придумать подобное.
Как бы там ни было, Хади и Аминат считали, что благодетельного домашнего духа надо немедленно восстановить в его правах, чтобы он не тревожил покойного и чтобы его недовольство и в дальнейшем не сказывалось на доме пагубно. Так и было сделано. Чтобы умилостивить обиженного духа, ему в этот же день поставили богатое угощение в виде белого хлеба и золотистого меда. К счастью, это оказалась пятница {61}.
А между тем я собрался, пошел в мечеть и попросил муллу пойти со мной на могилу брата. Когда священнослужитель приступил к чтению Корана за упокой души умершего, я тоже погрузился в молитву. Я обещал Заиру помнить о нем и сохранить верность всему, что было нашим общим достоянием. С этого дня его душа успокоилась, и если он позднее и приходил ко мне во сне, то это было как в игре и только для того, чтобы напомнить мне о милых сердцу днях моего детства.
Узнав, что я вернулся из чужих краев, пришли соседи, чтобы расспросить меня о далекой стране, которую я увидел. Но поскольку я им рассказывал об огромном количестве людей, живущих в городах, о произведениях искусства, о просторных, плодородных и хорошо возделанных равнинах и, наконец, о красивом корабле, мне показалось, что это вовсе не то, что они так жаждали от меня услышать. Так как Германия, несмотря на то, что она сейчас воевала с Россией, вызывала у них нескрываемую симпатию и глубокое уважение. Ведь это была родина великолепного, искусно изготовленного оружия. И с этой точки зрения, разумеется, мои рассказы полностью разочаровали их. Они с нетерпением спрашивали меня о могущественном Круппе, желая узнать, какое новое оружие он придумал и как обстоят дела с его оружейными заводами. И тут я вынужден был признаться, что я ни его, ни его заводов и ничего похожего на оружие в Германии не видел. А они не смогли скрыть своего разочарования по поводу моей юношеской несерьезности. Таким образом, мои эмоциональные рассказы о жизни в Германии превратились в нечто совсем незначительное, и я больше никому и ничего не рассказывал об этом.
Многие из наших мужчин воевали сейчас вместе с русскими на фронте. Разумеется, большинство из них были добровольцами, так как дагестанцев не обязывали к регулярной воинской службе, за исключением тех, кто служил в профессиональной русской армии. Из-за чего началась и велась эта война, простые горцы не знали, да для них это и не было столь важно. Им пообещали войну такую огромную, какую они еще никогда не видели. Тогда они вышли из своих гор и долин, решив принять участие в происходящем. Этих храбрецов повели далеко от родины в Карпаты, куда они шли с радостью.
Но в огромной русской армии их подстерегали неожиданные неприятности. Тщательно наточенные сабли и кинжалы, доставшиеся им от отцов и пролившие на своем веку немало вражеской крови, оставались бездействовать в ножнах. Даже пистолеты с кобурой здесь не были нужны. Воинов вырывало из рядов так, будто их уничтожали злые небесные духи. Они гибли — о, непостижимая судьба — не только не посмотрев противнику в глаза, но даже издалека не увидев пушек, посылавших им смерть. Напрасно они мечтали встретиться с врагом с глазу на глаз, схватить его за горло и притянуть к себе так, что он был бы близок как друг. Одно разочарование следовало за другим. В русском лагере было запрещено все, что могло бы порадовать сердце мужчины после исполненного долга, а именно пение, танцы и веселье всякого рода, нельзя было производить радостные выстрелы и разжигать веселые костры.