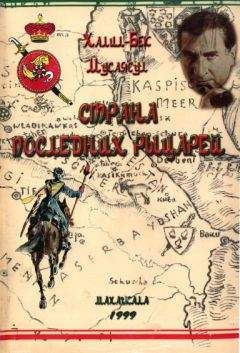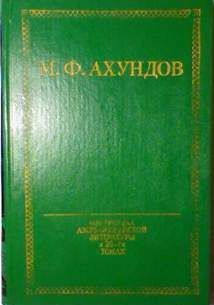Спустя год после казни Буйнакского большевики пришли к власти на Кавказе, и их первым желанием было отомстить за своего передового борца за революцию, в память о котором город Темир-Хан-Шура был переименован в Буйнакск. Теперь настала очередь Алтая и других подписавших смертный приговор быть арестованными, а впоследствии и казненными.
У меня была какая-то тяжесть на сердце, когда я шел по дороге в тюрьму, чтобы навестить Алтая, и еще тяжелее стало, когда я представил себе жизнерадостного брата, попавшего из своей блестящей светской жизни в огромную беду. Но, дойдя до его камеры, я увидел на пороге сверкающие лакированные туфли, которые стояли так же мирно, как когда-то перед гостиничным номером в Кисловодске, и на душе у меня стало легче. Внутренняя обстановка помещения, из которого он вышел мне навстречу в хорошем настроении, несомненно носила печать его прежней легкой светской манеры, и он засмеялся, довольный тем впечатлением, которое произвело на меня его уютное жилье. Разгадка была очень простой. Тюремный страж оказался бывшим поваром Алтая, который был ему предан, как и прежде, и старался всячески ему угодить. Разумеется, это ничего не меняло в мрачных прогнозах на результаты судебного процесса, но для него самого первостепенную важность имело благоустройство его сегодняшнего быта. Все остальное как-нибудь устроится, считал он, неисправимый оптимист.
И так случилось, что даже это печальное время не прошло для него без утешительных и веселых происшествий. Командир большевистской армии Иванов, бывший полковник, которому было поручено взятие Азербайджана, жил тогда в Темир-Хан-Шуре. Его красивая молодая русская жена дружила с несколькими дамами, интересовавшимися Алтаем так, что даже навещали его в тюрьме. Однажды, когда в доме Ивановых собралась компания и настроение было уже легким и веселым, речь вдруг зашла об интересном и благородном заключенном, которого полковник не знал. Женщины начали расхваливать интеллигентность и галантные манеры Алтая. Им очень хотелось пригласить его, и они стали упрашивать хозяина дома разрешить бедняге, хотя бы на часок, принять участие в их вечеринке. Вино сделало свое дело, и Иванов разрешил. Алтая подняли среди ночи с постели и, ничего не объяснив, вывели из тюрьмы. Покидая камеру, он, на всякий случай, дал указание передать после его смерти часы и драгоценности двоюродному брату Андалу.
Увидев в доме Ивановых вместо смерти красивых женщин и веселую пирушку, он быстро сориентировался в пикантной ситуации, романтичность которой была полностью в его духе, и воодушевленный сознанием того, что трагическая судьба делала его неотразимым, он очаровал все общество и в том числе хозяина дома, который повторял, что никогда еще не встречал такого славного компанейского человека и интересного гостя. Один час, на который было дано разрешение вначале, превратился в четыре, а когда Алтай прощался, его обнял командир большевиков и подарил ему в знак дружбы дорогой браунинг, с которым ему при возвращении в камеру пришлось, конечно, на время расстаться.
Вскоре после того вечера вынесли приговор. Двое из обвиняемых, как и предусматривалось, были приговорены к смерти и расстреляны. Алтая, который спокойно ждал такой же участи, спасли неожиданные показания двух рабочих, клятвенно подтвердивших, что Буйнакский в своем последнем слове просил передать привет своему старому знакомому Алтаю, понимая, что приговор он подписал вынужденно. Этого было достаточно если не для освобождения, то хотя бы для «смягчения» приговора до пожизненного заключения. Алтая отправили в Петровск, где ему пришлось долго ждать нового счастливого поворота своей судьбы — пока его не выпустили на свободу по амнистии, связанной с десятилетним юбилеем революции. И это еще не все. Самая милая из тех красавиц, которые навещали и утешали его в тюрьме, вышла за него замуж (с первой [женой], тихой и набожной Кусум он давно развелся), и с этой второй женой он жил отныне в мире и согласии, как это удается особо удачливым людям даже в тяжелых условиях нынешнего времени.
Ловкий и умный Алтай всегда был настоящим везунчиком, и расположение звезд при его рождении было, видимо, очень благоприятным. Или, может, тогда в покои его матери вошла добрая фея, чтобы в колыбель ребенка положить дары, приносящие удачу, искусство быть приятным людям и удерживать подарки судьбы легкой уверенной рукой.
* * *
Судьба Алтая, как зеркало отражавшая то, что происходило в жизни нашего народа, вывела нас через войну в дореволюционное время и тем самым привела к событию, которое для нашего мира имело решающее значение, дав еще раз возможность воспламениться нашей мечте о свободе, чтобы затем еще больше разочаровать нас. Но убить это неистребимое желание в многострадальных сердцах нашего народа эта последняя неудача не смогла, так же как и предыдущее поражение.
Весть о состоявшемся 15 марта 1917 года отречении царя от престола дошла через несколько дней и до Эрзинджана в Месопотамии {65}, где я работал в девятой русской миссии Красного Креста. Ее сначала скрывали, так как руководство считало ее совершенно невероятной, но она распространилась, как всякое печальное известие, с огромной скоростью, пока, наконец, ее не подтвердили публичным прочтением декрета об отречении. Повсеместное тихое волнение переросло сразу в шумное движение, все до сих пор объединенное стало разъединяться, военная присяга отменялась, дисциплина распустилась, а турки стали постоянно и беспрепятственно наступать на русские позиции.
А в нас, кавказцах, вновь проснулась дремавшая надежда на самостоятельность, к тому же поговаривали, что в Дагестане уже тайно избран имам *, публичное провозглашение которого вскоре должно произойти. Услышать этот зов родины и последовать ему — это было одно и то же.
В поездах, идущих на Тифлис, можно было увидеть лишь изношенные мундиры и серые шапки, появлялись красные флаги, повсюду раздавались революционные рабочие песни. Воздух был наполнен ненавистью и предчувствием беды, пахло кровью. Солдаты холодно и презрительно смотрели на своих начальников. Если они еще здоровались с ними, то выглядели при этом очень нагло и неприлично со своими самокрутками в зубах. Маска вежливости спала, а из-под нее выглядывала угрожающая гримаса черни. Из-за всей этой ситуации меня все больше тянуло домой. Я надел черкеску и отныне принадлежал только своей родине.
Из Тифлиса я поехал в Петровск по местам, становившимся все ближе и роднее. Весна покрыла долины свежей травой, крестьяне не спеша работали на полях. Ах, здесь все было как прежде! Я почувствовал, что наша, кавказцев, судьба стала отдаляться от судьбы России! Наши пути, которые на определенное время сошлись, снова начали расходиться. Конечно, как мы могли помочь сами себе, мы, бедные люди, живущие на скудной земле? Ну что ж, пусть будет то, что суждено. Несомненным было одно, что нетронутая, невинная связь нашего народа с его землей давала ему вечный приют и отраду. От нашей земли прирастали к нам порядок и уверенность в себе, а с ними гордость и настоящая свобода, которые придавали нам в общении с людьми непосредственность и вежливость. Эта разбегающаяся армия напоминала мне испуганное стадо, оставшееся без пастуха, а мужчины моей родины вели себя по-прежнему, не суетясь и не дергаясь, как это делали их предки с незапамятных времен.
И в Петровске царило лихорадочное движение. Я с интересом разглядывал новую, недавно открытую железную дорогу {66} и заметил поезд с офицерами, направлявшийся в Темир-Хан-Шуру, куда надо было добраться и мне. Он оказался зарезервированным для тайно избранного имама Нажмудина {67} и его сопровождающих. По моей просьбе мне было разрешено ехать с ними, и уже в следующую минуту поезд тронулся с места.
Я ехал, стоя у окна в проходе, и тут произошла моя неожиданная встреча с имамом. Из открытого купе вышел высокий, широкоплечий пожилой мужчина с круглой бородой. Охрана стояла перед ним навытяжку и, когда он медленно проходил мимо меня, я тоже почтительно поклонился ему. Тут он повернулся ко мне, протянул мне руку и спросил, кто я. Я назвал имя своего отца, наиба Манижала из Чоха. «Твоего отца я не знал,— сказал он,— но твой дед Манижал Мохама был хорошим и достойным человеком!» А затем дружелюбно спросил, не студент ли я. Да, я художник и учился на Западе, в Германии. И тут же последовал резкий и недоверчивый вопрос, не стал ли я социал-демократом. «Если да, то ты уже не друг своей родины!» Я попытался его заверить, что я ничего общего с этими людьми не имею. Уходя, он еще раз похвалил моего деда и снова посмотрел на меня тем же острым и пронзительным взглядом, который дал мне почувствовать всю мою неопытность и незрелость.
Спустя месяц после этой первой встречи имам пригласил меня к себе и во время угощения остроумно расспрашивал меня о Европе. Он попросил меня нарисовать его портрет. Имам был богатейшим человеком, ему принадлежали огромные стада овец, и ученейшим теологом всего Кавказа. Но, несмотря на это, он оставался настолько человечным и импульсивным, что смог меня наивно спросить: «Если ты меня нарисуешь, то, наверное, постараешься сделать это правдоподобно. А не смог бы ты все же изобразить мою бороду черной и красивой?» А борода у него действительно начала седеть и редеть. Когда же я его убедил в том, что смогу выполнить его желание, этот большой человек выразил такое удовлетворение и такую простодушную радость, что тут же окончательно завоевал мое сердце. Во всем его поведении чувствовалась такая искренность и доброта, которая характерна только сильным людям.