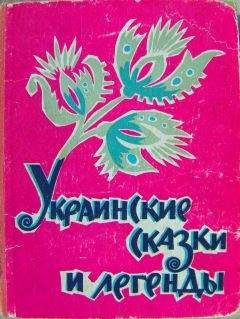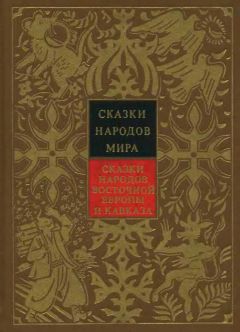IV
ПАН КАНЬОВСКИЙ И БАБА ЗОЗУЛЯ
Было это однажды осенью — пошла старуха Зозуля в лес за опенками. Собрала она их или, может, еще только собирать начала, осмотрелась по сторонам — а тут вдруг пан Каньовский с ружьем за плечами, и собаки с ним рядом бегут. Как стояла, так и застыла на месте старуха, не шелохнется. А пан Каньовский, кого, бывало, ни встретит одного, то уж обязательно какую-нибудь пакость устроит; потому с ним и боялись встречаться.
Стоит это, значит, она, всем телом дрожит, словно в лихорадке.
— А что это ты тут, бабуся, делаешь? — спрашивает ее пан.
— О… ппен… ки сбираю, п…паночек, — насилу выговорила она.
— А как тебя звать?
— Зозуля, па…паночек.
— А-а, так ты зозуля, а я вот как раз ее и искал. Что ж, полезай на дерево и кукуй по-кукушечьи.
— Да я ведь стара, мне, паночек, не взобраться, — проговорила сквозь слезы баба.
— Полезай, я тебя, зозулька, подсажу.
Стала баба на дерево карабкаться, а он и давай ее арапником подсаживать. Влезла баба на дерево, стала на ветку и стоит, вся дрожит.
— Начинай куковать! — кричит пан.
— Ку-ку! Ку-ку! — закуковала баба.
А пан быстро нацелился из ружья и бах!.. Так Зозуля с дерева и покатилась… Убил, вражий сын! Подъехал пан к бабе поближе, посмотрел, посмеялся над Зозулей и поехал себе дальше…
КАК КАНЬОВСКИЙ УЧИЛ ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ ВОРОТА ЕЗДИТЬ
Велел раз пан Каньовский поставить среди пустого поля ворота, а около них — несколько гайдуков с плетьми. Вот они и следят: кто едет полем напрямик и думает: «Мне, мол, какое дело, что стоят там какие-то ворота, где нету дороги». И как закричат гайдуки:
— Сто-ой!
Бедняга останавливается, видит, что это гайдуки помещичьи. А те враз к нему:
— Ах ты, такой-сякой, куда едешь? Разве не видишь, что тут наш ясновельможный пан ворота поставил? Ты как думаешь, зачем он это сделал? Зачем средства на это тратил? А затем, чтоб такие вот дураки, как ты, не ездили бы куда попало, а чтоб ехали через ворота, как полагается!
И стаскивают раба божьего с воза, раскладывают его среди поля, отсчитывают ему двадцать пять плетей да еще приговаривают:
— Это, чтобы ты знал, как за воротами ездить.
Жили дед Петро и жена его Олена. И был у них единственный сын Иван.
Дед Петро, как был молодой, работал слугой у пана Люблинского. Однажды он не угодил пану, и пришлось ему с семьей бежать.
Поселился он в густом лесу вблизи Синевира. А в лесу, вдали от села, жить было нелегко, еду добывать трудно. Дед Петро научил своего сына бить зайцев, лисиц, волков, куниц, научил его рыбу ловить. А в те времена рыбы было много.
Дед Петро сделал себе маленькую хижинку. А кругом стояли такие густые леса, что только тот, кто хорошо знал все тропки, мог найти дедову хижинку.
Зверя ловили капканами и силками. Шкуры сушили. И, когда набралось много шкур, сделал дед Петро на реке Теребле из смерековых[25] бревен бокор[26], положил шкуры на бокор и спустился вниз по Теребле до Тиссы, а оттуда двинулся на базар в Сигот.
В Сиготе продал он шкуры и купил на серебро два ружья, патроны, хлеба, муку — и домой воротился.
Маленький Иванко очень обрадовался ружью и часто охотился на мелкого зверя.
Раз дед Петро заболел и не поднялся больше с постели. А шкур набралось много, и надо было отвезти их на базар. Тогда сделал Иван бокор, сложил шкуры и спустился вниз по Теребле. А в Сиготе как раз в то время была большая ярмарка.
Покупая у Ивана шкуры, один пан спросил, откуда это он добывает такие прекрасные шкуры и где он живет.
Иван ответил, что уже двадцать пять лет живет со своими отцом-матерью в лесу, недалеко от Синевира…
А тот пан, что говорил с Иваном, оказался паном Люблинским, от которого бежал когда-то дед Петро.
Не успел Иван вернуться домой, как слуги пана Люблинского уже нашли в чаще хижинку и стали требовать у деда налог за шкуры. Они грозили деду, что засадят его в тюрьму, если он не заплатит за все годы. Но дед Петро платить не хотел, и слуги сильно избили его и его жену.
Когда Иван вернулся из Сигота домой, его отец уже умер.
На другой день опять явились слуги, а с ними и пан Люблинский. Пан стал опять требовать налог, и его слуги начали забирать шкуры. Тут Иван так рассердился, что убил одного из них. Тогда пан велел хижинку поджечь, а все их добро забрать.
Иван бежал в горы и вступил в отряд Шугая. Опришек Шугай был старшим. Вместе со своими хлопцами он у богатых брал, а бедным давал. Опришки напали на усадьбу пана Люблинского и подожгли ее. Деньги роздали бедным селянам.
Все бедные люди помогали Шугаю, укрывали его и теперь еще о нем вспоминают.
Жил один опришек, звали его Шугай. Был он самым смелым на весь край. И ходил он, куда хотел. Хотел побывать у жандаров[27], ходил к ним, пил с ними, а когда уходил, писал им записку: «Пил с вами Микола Шугай.
Повстречался я с Шугаем в Дуброве. Спросил он меня, где бы молока купить. Мы поговорили, и собрался Шугай, и пошел в Бовцари, и убил там семерых жандармов: стал за хлевом и каждым выстрелом убивал по жандару. Оттуда двинулся в Немецкую Мокру. Зашел к одному торговцу и велел:
— Чтобы завтра к вечеру было мне тридцать тысяч. А нет, то будешь короче на голову.
Заявил торговец жандарам, что завтра вечером будет у него Шугай. Но Шугай не пришел в тот вечер, а на другой:
— Что, собрал тридцать тысяч?
— Нет у меня таких денег.
Вывел тогда Шугай торговца во двор и спрашивает его еще раз:
— Даешь тридцать тысяч?
Испугался торговец и дал.
Двинулся Шугай оттуда в Воливский округ и подарил там бедняку пятнадцать тысяч крон, чтобы тот поставил себе хату, купил скотину и хлеба.
В Воловом сделал и другие большие дела. Гнались за ним жандары со всего края, но поймать не могли. Ушел он в горы и на одном обороге[28] три недели лежал. Знал о том его кум, что носил ему есть.
Искали его жандары по селам, а в лес боялись идти. Объявили: «Кто Миколу Шугая убьет, тому тридцать тысяч дадут».
Но Шугая никто убить не соглашался, были у него верные двое товарищей, а третий кум.
В одно из воскресений пришел к Шугаю кум, что носил ему есть. А Шугай ему и говорит:
— Побрей меня, кум!
Сели они под стогом сена, и начал кум Шугая брить. А товарищи Шугая отошли в сторону. А кум, что брил Шугая, и зарезал его.
И ушли товарищи Шугая после смерти его в Россию.
Пришел раз Кармалюк на мельницу. А на мельнице тесно, зерна навезли много, толпится народу пропасть, — как раз самая пасха подходила, и каждый хотел намолоть себе муки на кулич. Кто ни пришел, гляди — уже и к жерновам протолкался, мелет и домой едет. И только одна бедная вдова — ни сил у нее, ни богатства — сидит на своем мешочке и плачет, горькими слезами заливается, нету ведь ей доступу к жерновам, не протискается она туда между богачами. А они знай мелют себе да над ней, над бедною женщиной, посмеиваются… А дома у нее деточки малые, сироты голодные, маму напрасно дожидаются.
Тогда подходит к ней Кармалюк, берет у бедной женщины мешочек — драный-драный он, и ракам бы за него не уцепиться, — да и высыпал зерно на помол, а беднячке и говорит:
— Не плачьте, тетка, богачи как богачи, сердца у них нету…
Только сказал он это, а тут среди народа: «шу-шу, шу-шу»,
— Как это так, — говорят, — молодой да ранний, еще и старшим грубиянит, богатством глаза колет. Богатство, — говорят, — от труда да от бога, за него, — говорят, — уважать надо.
И: «шу-шу, шу-шу».
Кармалюк ничего на это не ответил, а уж когда смолол бедной вдове, да подал ей на плечи, и домой отправил, то и обращается ко всем:
— А пойдемте-ка, люди добрые, во двор.
Вот вышли все во двор, а Кармалюк подвел их к молодой яблоньке, что как раз распускалась, да и говорит:
— Так вот вы говорите, что богатство от труда да от бога?
— Верно, верно, мы так и говорим! — загудели все.
Тогда Кармалюк показывает им на почки, из них, мол, листочки будут; и на завязи — из них прутья вырастут, те, что люди «волками» называют. Показал он на эти завязи, да и говорит:
— Добрые люди, а придите сюда через девять недель.
Потом поклонился громаде и пошел.
Прошло девять недель. Вот и приходят люди к той самой яблоньке, смотрят — а там ветки еле-еле живые, такие черные да жалкие и даже завязи нету, чтобы зацвесть, а от ствола тянутся вверх прутья, что люди называют «волками», да такие большие, пышные, и зеленые, что прямо сок с них, словно слюна, течет…
— Так вот, — говорит Кармалюк, — скажите, добрые люди, громада честная, отчего эти ветки засохли?
— А потому, — крикнули все скопом, — что все их соки ветки-«волки» повыпили…