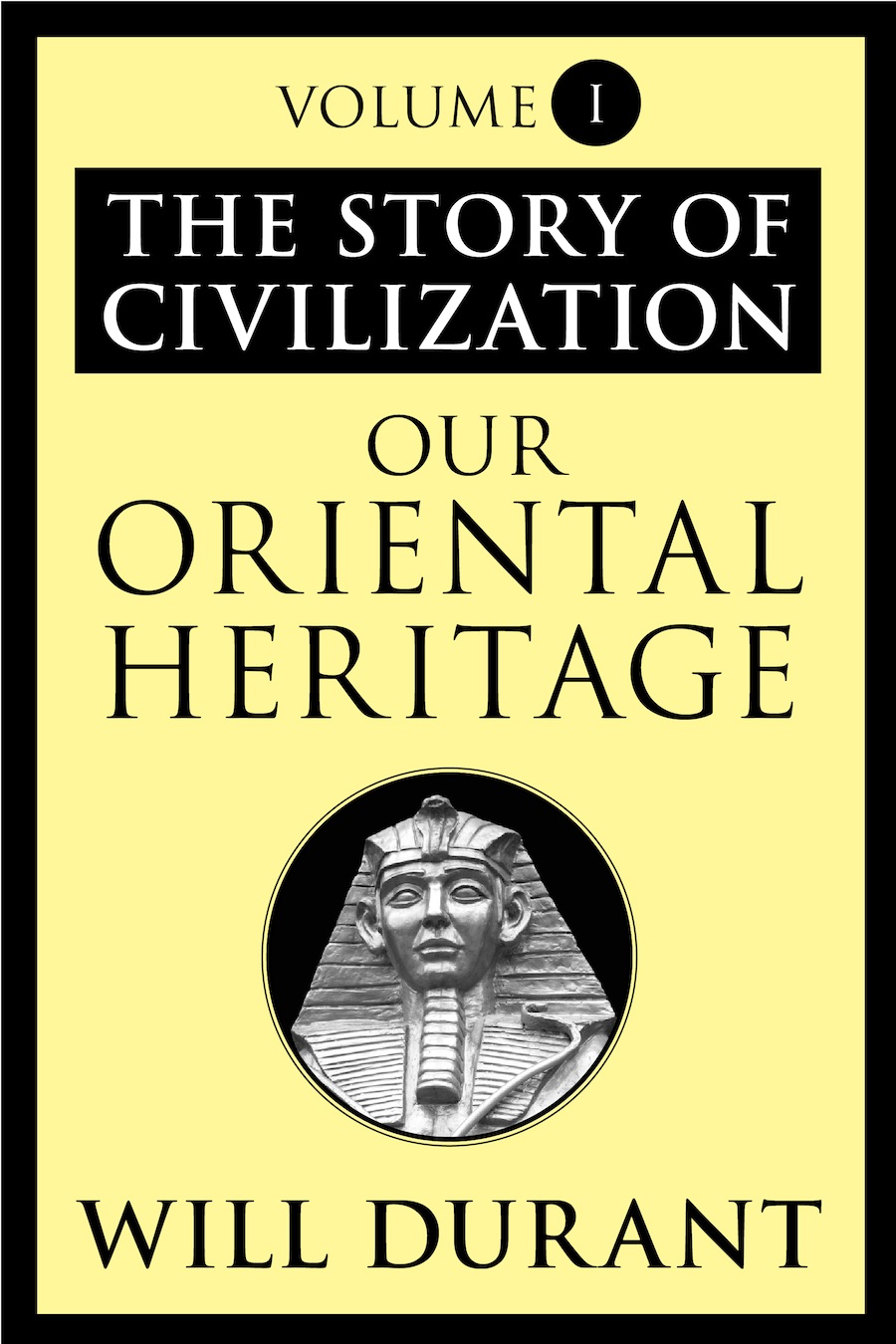разумом мира.
Разум человека - это разум чувственного мира, но у нас есть и другой разум, который называется совестью. Это сам разум, не принадлежащий к форме (или "способу"). Он бесконечен и вечен. Поскольку наша совесть едина с (божественным или универсальным) разумом, у нее нет ни начала, ни конца. Если мы действуем в согласии с (таким) разумом или совестью, мы сами являемся воплощениями бесконечного и вечного и имеем вечную жизнь.112
Накайе был человеком святой искренности, но его философия не понравилась ни народу, ни правительству. Сёгунат трепетал от мысли, что каждый человек может сам решать, что правильно, а что нет. Когда другой приверженец Оёмэй, Кумадзава Бандзан, перешел от метафизики к политике и раскритиковал невежество и праздность самураев, был послан приказ о его аресте. Кумадзава, осознав важность пяток как особо философских органов, бежал в горы и провел большую часть оставшихся лет в лесной безвестности.113 В 1795 году вышел указ, запрещающий дальнейшее преподавание философии ойомэй; и так покорны были умы Японии, что с тех пор ойомэй скрывался под фразами конфуцианства или входил в качестве скромного компонента в тот военный дзен, который, по типичному парадоксу истории, превратил мирную веру Будды в вдохновение патриотических воинов.
По мере развития японской науки и непосредственного знакомства с трудами Конфуция, а не только с его сунскими интерпретаторами, такие люди, как Ито Дзинсай и Огю Сорай, основали классическую школу японской мысли, которая настаивала на том, чтобы идти через головы всех комментаторов к самому великому К'унгу. Семья Ито Дзинсая не соглашалась с ним в том, что касается ценности Конфуция; они насмехались над нецелесообразностью его занятий и предсказывали, что он умрет в нищете. "Стипендия, - говорили они ему, - принадлежит китайцам. В Японии она бесполезна. Даже если вы ее получите, вы не сможете ее продать. Лучше стань врачом и зарабатывай деньги". Молодой студент слушал, не слыша; он забыл о звании и богатстве своей семьи, отбросил все материальные амбиции, отдал свой дом и имущество младшему брату и ушел жить в уединение, чтобы не отвлекаться от учебы. Он был красив, и иногда его принимали за принца; но одевался он как крестьянин и избегал посторонних глаз. "Дзинсай, - говорит японский историк,
был очень беден, так беден, что в конце года не смог приготовить новогодние рисовые лепешки; но он был очень спокоен на этот счет. Пришла его жена и, опустившись перед ним на колени, сказала: "Я буду делать работу по дому при любых обстоятельствах; но есть одна вещь, которая невыносима. Наш мальчик Генсо не понимает, что такое наша бедность; он завидует соседским детям в их рисовых лепешках. Я ругаю его, но сердце мое разрывается на две части". Джинсай продолжал листать книги, ничего не отвечая. Затем, сняв кольцо с гранатом, он протянул его жене, как бы говоря: "Продай это и купи рисовых лепешек".114
В Киото Дзинсай открыл частную школу и читал там лекции в течение сорока лет, обучив в общей сложности около трех тысяч студентов философии. Изредка он говорил о метафизике и описывал вселенную как живой организм, в котором жизнь всегда побеждает смерть; но, как и Конфуций, он питал теплые предрассудки в пользу земной практики.
То, что бесполезно для управления государством или для того, чтобы идти по пути человеческих отношений, бесполезно. . . . Обучение должно быть активным и живым; обучение не должно быть просто мертвой теорией или спекуляцией. . . . Те, кто знает путь, ищут его в своей повседневной жизни. . . . Если мы надеемся найти путь в отрыве от человеческих отношений, это все равно что пытаться поймать ветер. . . Обычный путь прекрасен; более прекрасного в мире нет".115
После смерти Дзинсая его школу и работу продолжил его сын, Ито Тогай. Тогай посмеялся над славой и сказал: "Как можно не называть человека, чье имя забывается, как только он умирает, животным или песком? Но разве не ошибка, если человек стремится создавать книги или строить предложения, чтобы его имя вызывало восхищение и не было забыто?"116 Он написал двести сорок два тома, но в остальном вел жизнь скромную и мудрую. Критики жаловались, что в этих книгах сильно то, что Мольер называл virtus dormitiva; тем не менее ученики Тогаи отмечали, что он написал двести сорок две книги, не сказав ни одного плохого слова ни об одном другом философе. Когда он умер, они поместили на его могиле эту завидную эпитафию:
Он не говорил о недостатках других. . . .
Его не интересовало ничего, кроме книг.
Его жизнь прошла без происшествий.117
Величайшим из этих поздних конфуцианцев был Огю Сорай; как он сам выразился: "Со времен Дзимму, первого императора Японии, как мало ученых, равных мне!" В отличие от Тогая, он любил спорить и яростно высказывал свое мнение о философах, живых или мертвых. Когда один любознательный юноша спросил его: "Что ты любишь помимо чтения?", он ответил: "Нет ничего лучше, чем есть подгоревшие бобы и критиковать великих людей Японии". "Сорай, - сказал Намикава Тэндзин, - очень великий человек, но он думает, что знает все, что можно знать. Это плохая привычка".118 Огю мог быть скромным, когда хотел: все японцы, говорил он, включая себя, были варварами; только китайцы были цивилизованными; и "если есть что-то, что должно быть сказано, это уже было сказано древними царями или Конфуцием".119 Самураи и ученые гневались на него, но сёгун-реформатор Ёсимунэ наслаждался его смелостью и защищал его от интеллектуальной толпы. Сорай установил свою трибуну в Йедо и, подобно Сюнь-цзе, обличающему сентиментальность Мо Цзы, или Гоббсу, опровергающему Руссо еще до рождения Руссо, обрушил свою смехотворную логику на Дзинсая, который заявил, что человек от природы добр. Напротив, сказал Сорай, человек - прирожденный злодей и хватается за все, до чего может дотянуться; только искусственная мораль и законы, а также безжалостное воспитание превращают его в сносного гражданина.
Как только человек рождается, у него появляются желания. Когда мы не можем реализовать свои желания, которые безграничны, возникает борьба; когда возникает борьба, следует смятение. Поскольку древние цари ненавидели беспорядок, они основали правильность и праведность и с их помощью управляли желаниями людей. ... . . Мораль - не что иное, как необходимое средство для управления подданными империи. Она возникла не из природы и не из порывов человеческого сердца, но была придумана высшим разумом некоторых мудрецов, а власть ей была дана государством".120
Как бы подтверждая пессимизм Сораи, японская мысль в