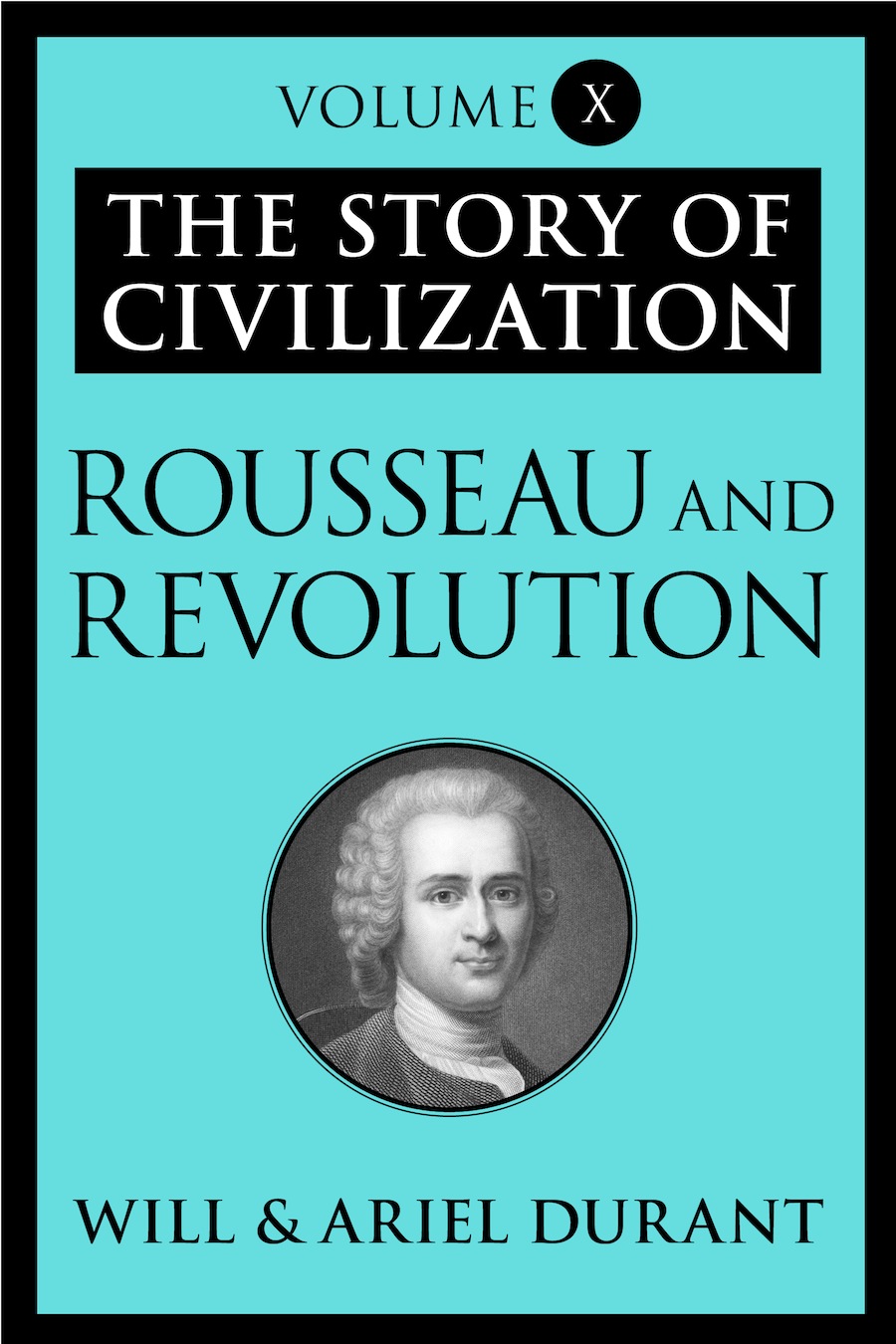никогда не мог забыть о ее возрасте и физической беспомощности. Когда он вернулся в Англию, она писала ему письма, почти такие же горячие от преданности, как письма Жюли де Леспинасс к Гиберту, и написанные такой прекрасной прозой, какую только мог показать тот возраст. В своих ответах он пытался сдержать ее восторг; его бросало в дрожь при мысли о том, что сделают английские Селвины с таким сочным мясом для сатиры. Она терпела его упреки, подтверждала свою любовь, соглашалась называть ее дружбой, но уверяла его, что во Франции дружба часто бывает глубже и сильнее любви. "Я принадлежу вам больше, чем себе. Я бы хотела послать тебе вместо письма свою душу. Я охотно отдала бы годы своей жизни, чтобы быть уверенной, что буду жива, когда вы вернетесь в Париж". Она сравнивала его с Монтенем, "и это самая высокая похвала, которую я могла бы вам дать, потому что я не нахожу ни одного ума, столь же справедливого и столь же ясного, как его".45
В августе 1767 года он снова отправился в Париж. Она ждала его с девственным волнением. "Наконец-то, наконец-то нас не разделяет ни одно море. Я не могу заставить себя поверить, что человек вашей значимости, стоящий у руля великого правительства, а значит, и всей Европы, может... бросить все, чтобы прийти и увидеться со старой сибиллой в углу монастыря. Это действительно слишком абсурдно, но я очарован. ... Идемте, мой наставник! ... Это не сон - я знаю, что не сплю, - я увижу вас сегодня!" Она послала за ним карету; он сразу же отправился к ней. Шесть недель он радовал ее своим присутствием и огорчал своими предостережениями. Когда он уехал в Англию, она могла думать только о его возвращении в Париж. "Вы сделаете мой закат куда более прекрасным и счастливым, чем мой полдень или рассвет. Ваша воспитанница, покорная, как ребенок, желает видеть только вас".46
30 марта 1773 года он попросил ее больше не писать.47 Затем он сдался, и переписка возобновилась. В феврале 1775 года он попросил ее вернуть все его письма. Она согласилась, деликатно предложив ему ответить взаимностью. "Вам надолго хватит огня, если вы добавите к своим все те, что получили от меня. Это было бы справедливо, но я оставляю это на ваше благоразумие".48 Из восьмисот его писем к ней сохранилось только девятнадцать; все ее письма были сохранены и опубликованы после смерти Уолпола. Когда он узнал, что ее пенсия прекращена, он предложил заменить ее из своих собственных доходов; она не сочла это необходимым.
Крах ее романа омрачил естественный пессимизм женщины, которая не замечала красок жизни, но знала ее мели и глубины. Даже в своей слепоте она могла видеть сквозь все галантные поверхности неутомимый эгоизм самого себя. "Мой бедный наставник, - спрашивала она Уолпола, - неужели вы встречали только чудовищ, крокодилов и гиен? Что касается меня, то я вижу только дураков, идиотов, лжецов, завистников и иногда вероломных людей. ... Все, что я вижу здесь, иссушает мою душу. Ни в ком я не нахожу ни добродетели, ни искренности, ни простоты".49 Религиозные убеждения мало чем утешали ее. Тем не менее она продолжала ужинать, обычно два раза в неделю, и часто обедала вне дома, хотя бы для того, чтобы избежать скуки дней, таких же темных, как и ночи.
Наконец она, научившаяся ненавидеть жизнь, перестала хвататься за нее и примирилась со смертью. Болезни, которыми страдает старость, набирались и набирались, и она чувствовала себя слишком слабой в свои восемьдесят три года, чтобы бороться с ними. Она вызвала священника и без особой веры предалась надежде. В августе 1780 года она отправила Уолполу свое последнее письмо:
Сегодня мне еще хуже.... Я не могу думать, что это состояние означает что-то, кроме конца. Я не настолько силен, чтобы бояться, и, поскольку я больше не увижу вас, мне не о чем сожалеть. ...Развлекайте себя, мой друг, как можете. Не тревожьтесь о моем состоянии. ... Вы еще пожалеете обо мне, ведь человеку приятно знать, что его любят.50
Она умерла 23 сентября, оставив Уолполу свои документы и собаку.
Многие другие салоньерки продолжили великую традицию: Мадам д'Удето, д'Эпинэ, Дени, де Генлис, Люксембург, Кондорсе, Буфлер, Шуазель, Граммон, Богарне (жена дяди Жозефины). Добавьте ко всему этому последний великий дореволюционный салон - салон мадам Неккер. Около 1770 года она начала устраивать приемы по пятницам; позже она принимала и по вторникам, когда господствовала музыка; там война Глюка и Пиччини разделяла обедающих, а Миле Клерон объединяла их, декламируя свои произведения. Клерон объединяла их, декламируя отрывки из своих любимых партий. По пятницам здесь можно было встретить Дидро, Мармонтеля, Морелле, д'Алембера (после смерти Жюли), Сен-Ламбера, Гримма (после смерти мадам д'Эпинэ), Гиббона, Рейналя, Бюффона, Гибера, Галиани, Пигаля и особого литературного друга Сюзанны, Антуана Тома. Именно на одном из этих собраний (апрель 1770 года) была высказана идея о статуе Вольтеру. Там Дидро усмирил свои ереси и стал почти утонченным. "Я сожалею, - писал он мадам Неккер, - что мне не посчастливилось узнать вас раньше. Вы, несомненно, вдохнули бы в меня чувство чистоты и деликатности, которое перешло бы из моей души в мои произведения".51 Другие отзывались о вас не столь благожелательно. Мармонтель, хотя и оставался ее другом в течение двадцати пяти лет, так описывал Сюзанну в своих "Мемуарах": "Незнакомая с нравами и обычаями Парижа, она не обладала ни одной из прелестей молодой француженки. ... У нее не было ни вкуса в одежде, ни непринужденности в поведении, ни очарования в вежливости, а ее ум, как и выражение лица, были слишком отрешенными, чтобы обладать грацией. Самыми привлекательными ее качествами были благопристойность, искренность и доброта сердца".52 Аристократические дамы не были к ней расположены; баронесса д'Оберкирх, посетившая Некеров с великим герцогом Павлом в 1782 году, назвала ее "просто гувернанткой";53 а маркиза де Креки разорвала ее в клочья в нескольких очаровательно злобных страницах.54 Мадам Неккер должна была обладать многими хорошими качествами, чтобы завоевать любовь Гиббона, но она так и не смогла преодолеть свое кальвинистское наследие; она оставалась чопорной и пуританской, несмотря на свое богатство, и так и не приобрела утонченной веселости, которую французы ожидали от женщин.
В 1766 году она родила будущую мадам де Сталь. Жермена Неккер, росшая среди философов и государственных деятелей, в десять лет стала пандитом. Ее развитый интеллект стал предметом гордости родителей, пока ее своенравный и возбудимый темперамент не стал