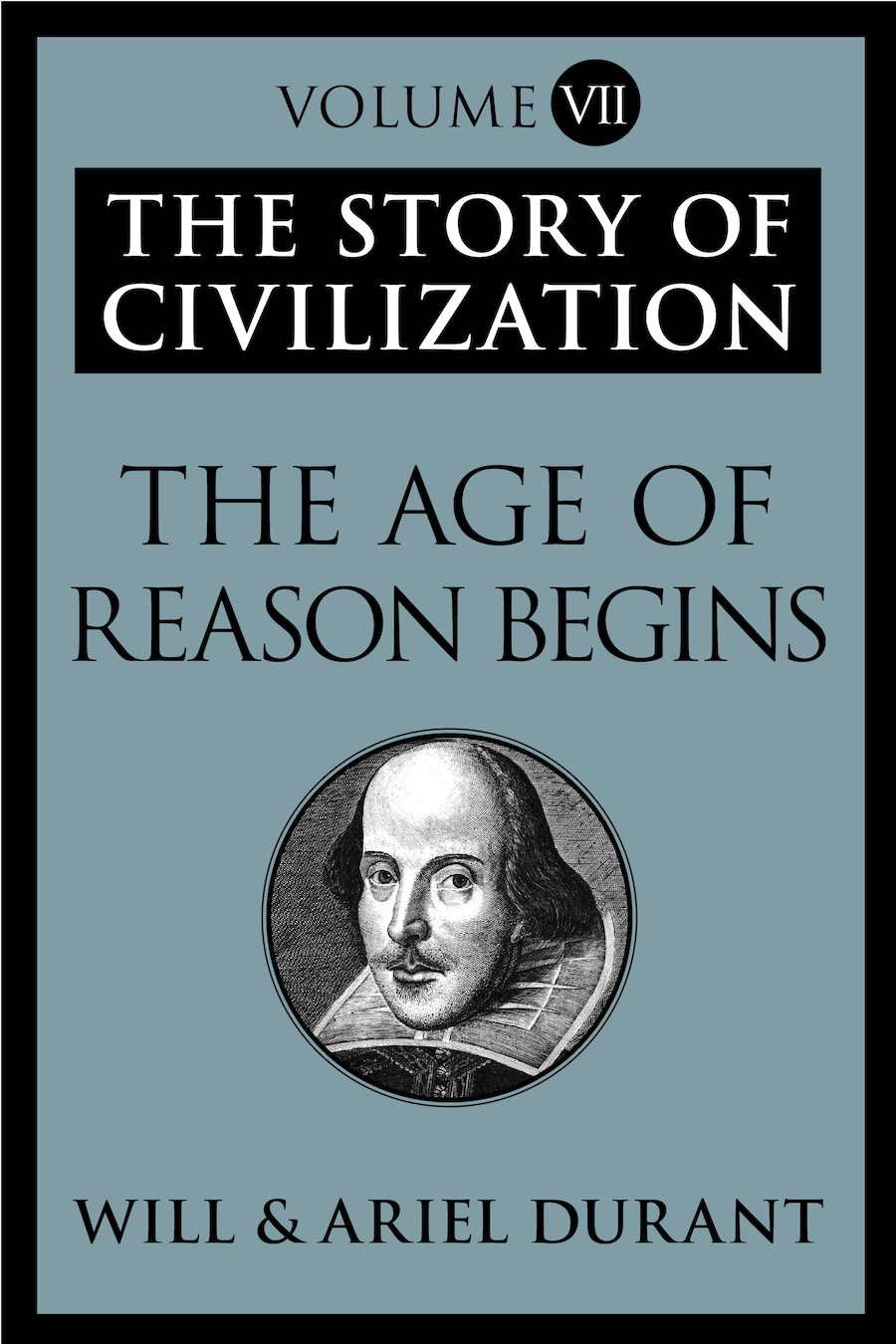и направить каждую к основным проблемам, требующим исследования и решения. Многие из его требований были выполнены наукой: улучшение клинической документации, продление жизни с помощью профилактической медицины, тщательное изучение "психических явлений" и развитие социальной психологии. Он даже предвосхитил наши современные исследования в области техники успеха.42
Второй и самой смелой частью Великого обновления была попытка сформулировать новый метод науки. Аристотель признавал и иногда проповедовал индукцию, но преобладающим методом его логики была дедукция, а ее идеалом - силлогизм. Бэкон считал, что старый "Органон" привел науку в состояние застоя, поскольку в нем упор делался на теоретические размышления, а не на практические наблюдения. Его "Новум Органум" предложил новый орган и систему мышления - индуктивное изучение самой природы через опыт и эксперимент. Хотя эта книга тоже осталась незавершенной, она, при всех своих недостатках, является самым блестящим произведением английской философии, первым ясным призывом к эпохе Разума. Она была написана на латыни, но такими ясными и меткими предложениями, что половина ее излучает эпиграммы. Первые же строки спрессовали философию, объявив индуктивную революцию, предвещая промышленную революцию и давая эмпирический ключ к Гоббсу и Локку, Миллю и Спенсеру.
Человек, будучи слугой и толкователем природы, может делать и понимать столько, и только столько, сколько он наблюдал, фактически или мысленно, за ходом природы; сверх этого он ничего не знает и ничего не может сделать... Человеческое знание и человеческая сила встречаются в одном; ибо там, где ход не известен, эффект не может быть произведен. Природа, чтобы повелевать, должна быть послушна".I
И как Декарт семнадцать лет спустя в "Рассуждении о методе" предложил бы начать философию с сомнения во всем, так и Бэкон здесь требует "изгнания интеллекта" в качестве первого шага в обновлении. "Человеческое знание в том виде, в каком мы его имеем, - это просто мешанина и плохо переваренная масса, состоящая из большого количества легковерия и случайностей, а также из детских представлений, которые впитываются с первого раза".44 Поэтому мы должны с самого начала очистить свой разум, насколько это возможно, от всех предубеждений, предрассудков, предположений и теорий; мы должны отвернуться даже от Платона и Аристотеля; мы должны вымести из нашей мысли "идолов", или проверенные временем иллюзии и заблуждения, порожденные нашими личными идиосинкразиями суждений или традиционными убеждениями и догмами нашей группы; мы должны изгнать все логические уловки, выдающие желаемое за действительное, все словесные абсурды неясной мысли. Мы должны оставить позади все эти величественные дедуктивные системы философии, которые предлагали вывести тысячу вечных истин из нескольких аксиом и принципов. В науке нет волшебной шляпы; все, что берется из шляпы в работах, должно быть сначала помещено в нее путем наблюдения или эксперимента. И не просто случайным наблюдением, не "простым перечислением" данных, а "опытом... искомым, экспериментальным". После этого Бэкон, которого так часто упрекают в игнорировании истинного метода науки, переходит к описанию реального метода современной науки:
Истинный метод опыта сначала зажигает свечу [гипотезу], а затем с помощью свечи указывает путь, начиная, как он делает, с опыта, должным образом упорядоченного... и из него образуя аксиомы ["первые плоды", предварительные выводы], а из установленных аксиом снова новые эксперименты... Сам эксперимент судит".45
Однако Бэкон настороженно относился к гипотезам: слишком часто они предлагались традицией, предрассудками или желанием - то есть опять-таки "идолами"; он не доверял любой процедуре, в которой гипотеза, осознанно или нет, отбирала из опыта подтверждающие данные и отбрасывала или была слепа к противоположным свидетельствам. Чтобы избежать этого подводного камня, он предлагал трудоемкую индукцию путем накопления всех фактов, относящихся к проблеме, их анализа, сравнения, классификации и корреляции, и, "путем должного процесса исключения и отвержения", постепенного устранения одной гипотезы за другой, пока не будет выявлена "форма" или глубинный закон и сущность явления.46 Знание "формы" обеспечит растущий контроль над явлением, и наука постепенно переделает окружающую среду и, возможно, самого человека.
Именно в этом, по мнению Бэкона, заключается конечная цель - применить метод науки для тщательного анализа и решительного исправления человеческого характера. Он призывает изучать инстинкты и эмоции, которые имеют такое же отношение к разуму, как ветры к морю.47 Но в данном случае вина лежит не только в поиске знаний, но и в их передаче. Человек мог бы быть переделан просвещенным образованием, если бы мы были готовы привлечь в педагогику первоклассные умы, обеспечив им соответствующее вознаграждение и почет.48 Бэкон восхищается иезуитами как педагогами и хотел бы, чтобы они были "на нашей стороне".49 Он осуждает компендиумы, одобряет драматические спектакли в колледжах и ратует за включение в учебный план большего количества наук. Наука и образование в таком понимании будут (как в "Новой Атлантиде") не инструментом и служанкой, а руководством и целью правительства. И уверенный в себе канцлер заключает: "Я ставлю все на победу искусства над природой в этой гонке".
V. ФИЛОСОФИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ
Мы чувствуем, что перед нами мощный ум - человек, один в столетии, в равной степени занимающийся и философией, и политикой. Было бы интересно узнать, что этот философ думал о политике, а этот политик - о философии.
Не то чтобы у него была какая-то система в философии, или он оставил какое-либо упорядоченное изложение своих мыслей, кроме логики. Тенденция его идей ясна, но их форма - это форма человека, которому приходилось неоднократно выходить из спокойствия философии, чтобы разбирать дело в суде, бороться с оппозицией в парламенте или консультировать необучаемого короля. Мы должны собирать его взгляды из случайных замечаний и литературных фрагментов, включая его "Эссе" (1597, 1612, 1625). С тщеславием, присущим авторству, Бэкон писал, посвящая их Бекингему: "Я полагаю... [этот] том может просуществовать столько, сколько существуют книги". В письмах его стиль сложен и затянут, так что его жена признавалась: "Я не понимаю его загадочного складного письма";50 В "Очерках" он скрывал еще более напряженный труд, дисциплинировал свое перо до ясности и достиг такой компактной силы выражения, что немногие страницы английской прозы могут сравниться с ними по значимости, спрессованной со светящимися симилами в совершенную форму. Как будто Тацит занялся философией и снизошел до ясности.
Мудрость Бэкона мирская. Метафизику он оставляет мистикам и спекулянтам; даже его высокие амбиции редко перепрыгивают от фрагмента к целому. Иногда, однако, он, кажется, погружается в детерминистский материализм: "В природе не существует ничего, кроме отдельных тел, совершающих чисто индивидуальные действия в соответствии с неизменным законом";51 и "исследования природы дают наилучший результат, когда они начинаются с физики и заканчиваются математикой";52 Но "природа" здесь может означать только внешний мир. Платону и Аристотелю