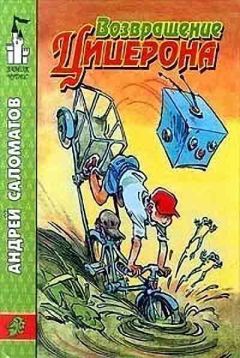Он вдруг замолчал, словно что-то припоминая, почесал затылок под обтертой ушанкой, поморгал розовыми с перепоя глазами и с некоторой задумчивостью проговорил, медленно пережевывая кусок сала:
– Не, ни хрена подобного, не здесь. У меня это было в бане, вот где. Или не в бане? Да нет, точно в бане, Серега голый был, в чем мать родила. Сидит голый и плачет: сын, мол, в секту пошел. Я, говорит, к нему с ремнем, а он, значит, за топор, а глаза белые, как у вареной селедки… Я, видать, тоже голый был… Баня ведь все-таки…
– Ясное дело, – счел необходимым поддержать его Андрей. Он больше не пил, внимательно слушая рассказ пьяневшего на глазах Василия и благодаря судьбу за то, что та привела его не в приемный покой больницы, а именно сюда. Нужно было только вытянуть из собеседника побольше, пока тот не окосел окончательно и не начал нести околесицу и ловить по углам чертей. – А вот ты про напарника своего рассказывал, про сменщика…
Как его". Аркадий?
– Ну? – совершенно пьяным, плывущим голосом переспросил Василий.
– Ты говоришь, он тебе что-то рассказывал. Что рассказывал-то?
Василий вдруг совершенно неожиданно протрезвел прямо на глазах. Это произошло так стремительно, что Андрей даже испугался.
– Рассказывал… – с непонятной интонацией повторил Рукавишников. – Уж что рассказывал, то рассказывал… Ты не мент?
– Да боже упаси, – искренне ответил Андрей.
– Ну так и незачем тебе это знать, – не слишком вежливо отрезал истопник, снова впадая в состояние, предшествующее полной прострации. – Кто много знает, тот мало живет, слыхал?
– Слыхал, – ответил Андрей. – Только я, как видишь, до сих пор жив, а уж какие истории печатал, какие люди грозились меня по самые ноздри в землю вбить… Я тебе, Вася, так скажу: не надо их бояться. Никого не надо бояться, и все будет в порядке.
Он и сам уже был порядком нагрузившись и начинал городить чепуху. Он-то знал наверняка: тот, кто вообще ничего не боится, – просто калека, моральный урод, и век таких людей, как правило, до смешного короток. Страх – один из основных защитных механизмов, спасающих нас от преждевременной смерти. Просто, если не хочешь превратиться в слизняка, нужно найти внутри себя кнопку, с помощью которой этот механизм можно выключить хотя бы на время, и тогда репутация человека, незнакомого с чувством страха, тебе обеспечена. Но ему нужна была информация, и он колол Рукавишникова, как следователь колет упорного свидетеля, не желающего давать показания из опасений, чаще всего вполне обоснованных, за целость своей драгоценной шкуры. Ход был примитивный, но его свидетель пребывал в таком состоянии, что наверняка заснул бы, не дождавшись завершения одной из тех хитроумных комбинаций, с помощью которых съевший на интервью собаку Шилов обычно вытягивал у неразговорчивых собеседников интересующие его данные. Кроме того, Василия явно так и распирало изнутри, алкоголь ослабил его тормоза, и ему не терпелось поделиться своими знаниями с тем, кто был согласен слушать… тем более что собеседником оказался корреспондент столичной газеты.
– В общем, имей в виду, – после долгой паузы сказал он, допивая остатки водки, – имей в виду, я тебе ничего не говорил… И вообще, я тебя не видел, не знаю и знать не желаю. Так вот, – он наклонился над столом и поманил к себе Андрея, – есть у меня подозрение, что эти богомольцы оружие прикупают, взрывчатку… Уж не знаю, кого они там воевать собрались, а только что же это за божьи люди, у которых ящики со взрывчаткой в подвале стоят?
– Гонишь, – с притворным недоверием сказал Андрей. – Какая взрывчатка, что ты несешь? Ты сам подумай, где это видано? Прославиться, что ли, захотел?
Рукавишников медленно улыбнулся, показав желтые от никотина зубы. Он опять выглядел совершенно трезвым, и Андрей снова испугался: уж очень резкими были эти внезапные перепады.
– Может, и гоню, – сказал он, вставляя в уголок рта сигарету без фильтра, – а может, и нет.
Мое дело сказать, а ты уж кумекай сам, как знаешь.
А славы мне твоей не надо, жизнь, знаешь ли, дороже. И если ты, писатель, мое имя в своей газете пропечатаешь, так и знай, загубишь русского человека ни за понюх табаку. Понял?
– Понял, – так же медленно, с расстановкой сказал Андрей, но Рукавишников, похоже, его уже не услышал, он храпел, уронив всклокоченную голову с уже начавшей пробиваться на макушке плешью на скрещенные руки. В пальцах правой руки дымилась забытая сигарета. Андрей аккуратно вынул ее из пальцев и хотел было выбросить, но передумал и стал курить, глядя в грязное оконное стекло, в котором не было видно ничего, кроме все той же котельной и стола, на котором среди остатков закуски сиротливо стояли две пустые водочные бутылки.
Андрей докурил сигарету и тщательно вдавил окурок во влажную землю подошвой кроссовки. Лесной пожар в такую погоду конечно же начаться не мог, но мать Андрея, когда-то учившая сына ходить по лесу и отличать боровики от поганок, привила ему осторожность в обращении с огнем так основательно, что это, казалось, вошло прямо в подкорку и закрепилось в генотипе. Во всяком случае, он никогда не разбрасывал в лесу окурки и всегда тщательно гасил костры, даже находясь в полубессознательном похмельном состоянии. Поймав себя на том, что, несмотря на принятые меры, все-таки немного беспокоится, до конца ли он потушил окурок, Андрей невесело улыбнулся… Мама, мама, как же хорошо ты умела клепать мозги…
Он с некоторым злорадством вылил остатки минеральной воды на корни ближайшей березы, бросил бутылку в присмотренную заранее ямку и небрежно надвинул сверху ногой ворох лесного мусора. Эти бессмысленные действия немного успокоили его.
Чтобы успокоиться окончательно, он потрогал сквозь тонкую кожу куртки рукоятку газового пистолета.
Это было оружие, пускай не вполне настоящее, но при выстреле с небольшого расстояния и оно могло покалечить, а то и убить какого-нибудь особо рьяного охотника на журналистов.
Вешая на плечо сумку, он снова кривовато улыбнулся. Если дело дойдет до стрельбы, то газовый пистолет его не спасет. Судя по всему, Рукавишников был прав – оружие у Волкова и его паствы было.
Во всяком случае, взрывчатки у них имелось предостаточно, судя по тому, с какой истинно русской щедростью и широтой души они расковыряли редакцию. Так что на пистолет надеяться не стоило, он мог только осложнить ситуацию, создав у своего владельца иллюзию защищенности.
– Так что мне, выкинуть его теперь? – вслух спросил Андрей у молчаливого перелеска. Перелесок ничего не ответил, и он, с некоторой натугой выдавив из себя смешок, вышел на тропу и зашагал в сторону поселка.
Перелесок вскоре кончился. Андрей пересек уже сухую ленту шоссе и двинулся через голое картофельное поле, покорно лежавшее в ожидании плуга. Тропа разрезала его по диагонали, карабкаясь на пологий бугор, за которым скрывались крыши и трубы поселка. Лишь немного левее того места, где тропа отсекалась близкой линией горизонта, из-за бугра выглядывал закопченный палец трубы.
Там была котельная, снабжавшая теплом и горячей водой полтора десятка хрущевских пятиэтажек, которые в Крапивино гордо именовались микрорайоном. Трубы больничной котельной отсюда видно не было.
Он двинулся через поле и вскоре поймал себя на том, что невольно пригибается, автоматически выискивая глазами укрытие, словно опять очутился на Кавказе.., не на том Кавказе, где пьют молодое красное вино под барашка и кинзу, а на том, где с завидной, достойной лучшего применения меткостью стреляют в русских людей из русского же оружия.
Он заставил себя выпрямиться и идти спокойно – в конце концов, кто его мог запомнить? И кто из людей, запомнивших его лицо, мог знать, что он и есть тот самый щелкопер, который написал разгромную статью в «Молодежном курьере»?
Поднявшись на пригорок, он увидел поселок, лежавший в чашевидной котловине километрах в полутора от того места, на котором он стоял, и привычно поразился, не в силах уразуметь, что заставляет людей жить в этом убогом месте. Город не город, деревня не деревня – так, сплошное недоразумение, выкидыш урбанизации… Ответ мог быть только один – нищета. Нищета приковывает человека к месту лучше цепей и колючей проволоки.
Нищета и необходимость растить детей – кормить их, одевать, учить и хотя бы ради них делать вид, что у тебя все нормально, что ты живешь, а не тянешь постылую лямку, скользкую от твоего пота, одеваться в убогие турецкие и китайские тряпки и смотреть убогие сериалы по телевизору, убого, привычно и безнадежно лаяться с супругом, с соседкой – с кем-нибудь, лишь бы отлаяться, и каждый день глушить себя то работой, то водкой, причем и тем и другим – в совершенно нечеловеческих дозах… А если организм не принимает водку или, к примеру, воспитание или общественное положение не позволяют периодически упиваться до поросячьего визга, ну что тогда? Правильно, молиться. И наплевать уже, кому ты молишься, лишь бы помогло, лишь бы полегчало чуток.., хоть прыщ на заднице сошел бы, что ли.