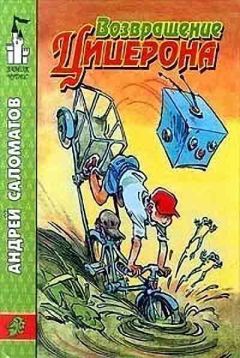Расспросив случайного прохожего, он дождался автобуса (маршрут номер два) и, проехав три остановки, вышел из него у ворот кладбища. Кладбище было невелико, видимо, открылось совсем недавно, так что Андрей без труда отыскал на его краю коротенький ряд свежих могил. Над одним из холмиков, наполовину скрытая выцветшим от дождей одиноким венком с обвисшей лентой, возвышалась выкрашенная корабельным суриком фанерная пирамидка с табличкой, на которой корявыми подплывающими буквами было выведено имя – Василий Антонович Рукавишников – и две даты, из коих следовало, что Василий Антонович топтал грешную землю ровным счетом тридцать восемь лет, три месяца и восемнадцать дней. Еще из этой надписи следовало, что умер Василий Антонович спустя два дня после выхода в свет статьи Андрея Шилова.
– Дружка пришел проведать? – спросил сзади глубокий басистый голос, и Андрей подскочил от неожиданности. Черт побери, в который уже раз!
Сзади подошел и остановился рядом с Андреем, глубоко засунув огромные кулаки в карманы широченных брюк, приземистый и широкий, до самых глаз заросший разбойничьей черной бородой без единого седого волоска мужик средних лет.
Андрей немного расслабился. Этого человека он не знал. В глубине души он побаивался, что странный истопник из больницы последует за ним на кладбище, чтобы свести счеты. В конце концов, дата на фанерной пирамидке была пусть косвенной, но все же уликой.
– Елы-палы, – сказал бородач, глядя мимо Андрея на пирамидку с одиноким венком. – Хороший был мужик Васька, душевный. Вот только пил без меры.., а как напьется, языком чесал без удержу, – добавил он после короткой паузы. Андрей вздрогнул, но бородач, казалось, ничего не заметил, продолжая задумчиво смотреть на могилу. – Уж как начнет, бывало, в пересменку небылицы плести…
– В пересменку? – с неприятным чувством стремительного падения переспросил Андрей, и ладонь его сама собой скользнула в карман, сомкнувшись на рукоятке пистолета. – Так вы Аркадий?
– Ну натурально, елы-палы, – обрадовался бородач. – А ты, как я понимаю, Шилов Андрей Владимирович, журналист. Хорошо пишешь, бойко. Будем знакомы.
И он протянул Андрею руку, пожалуй, чересчур резко. В руке тускло и очень опасно сверкнуло лезвие ножа. Шилов отпрянул, так что нож лишь зацепил кожаную куртку, легко распоров ее. Одновременно с этим Андрей нажал на курок. Вынимать пистолет из кармана было некогда, и он выстрелил прямо сквозь куртку.
Будь у него в кармане боевой пистолет вместо газового пугача, все еще могло бы кончиться более или менее благополучно, потому что он попал. Аркадий покачнулся и, отступив на шаг, схватился обеими руками за левый бок пониже ребер, но тут же снова выбросил вперед правую руку с зажатым в ней ножом и, скособочившись, по-крабьи двинулся на Андрея.
Шилов высвободил наконец пистолет из дырявого, прогоревшего кармана и навел его на бородача.
– А ну, стоять, – хрипло скомандовал он.
В воздухе витал легко различимый, но совершенно безвредный в такой концентрации запашок газа. – Буду стрелять в глаза. Прямо в глаза, ты понял, богомолец хренов?
– Понял, – сказал Аркадий. – Да смешается сын зла с чистой землей под моими ногами, да рассеется в небесах смрадное дыхание его, да…
– Молишься? – холодно спросил Андрей. – Молись, молись, мокрица подвальная. Сменщику своему ты, наверное, и помолиться не дал?
– ..да мочи ты его, Жорик! – неожиданно закончил свою молитву Аркадий, и острое, как жало, лезвие топора, сверкнув на солнце, с хрустом впилось в затылок журналиста Андрея Шилова.
* * *
Настоятель храма Святой Троицы, расположенного в деревне Мокрое, что привольно и беспорядочно раскинулась на невысоком холме километрах в пяти от поселка Крапивино, отец Силантий вел жизнь одинокую, но далеко не безгрешную. Матушка Аглая Петровна, царство ей небесное, тихо и благочинно отошла в мир иной уже три года тому назад, и с тех пор отец Силантий грешил бесперечь, словно с цепи сорвался. Он не прелюбодействовал, не крал и уж тем более не убивал. Гордыня тоже никогда не гостила в его просторном, со дня смерти попадьи медленно приходившем в упадок доме. Напротив, нагрешив, отец Силантий подолгу стоял на коленях перед иконами и слезно каялся в своих грехах, обзывая себя тварью убогой и иными словами, коих знал великое множество. Слезы и покаянные слова лились легко, поскольку грех отца Силантия весьма способствовал подобным излияниям. Грех был не из самых тяжких, но легко мог привести к гораздо более серьезным провинностям перед Господом.
Дело было в том, что батюшка любил выпить.
Он любил это дело смолоду и время от времени давал себе волю – осторожно, с оглядкой на Господа, начальство и матушку, которая на дух не принимала спиртного. Аглая Петровна была кротка, как голубка, и батюшка испытывал невыносимые страдания, созерцая ее слезы, которые та проливала над каждой выпитой им рюмкой. Для отца Силантия эти слезы были страшнее неудовольствия начальства и даже гнева Божьего. Это тоже был грех, но отец Силантий полагал, что из простой логики вещей следует, что Бог – это, говоря грубым мирским языком, хороший человек, и потому не может чересчур сильно гневаться на своего недостойного слугу за то, что тот не может без слез смотреть на мучения кроткого создания, единственный грех которого заключается в том, что оно хранит любовь и верность, в которых клялась перед алтарем.
Теперь же, когда матушка скончалась, так и не сказав за всю свою жизнь ни одного грубого слова и даже ни разу не возвысив голос, отец Силантий запил по-настоящему.
Он любил на досуге почитать мирскую литературу, и встретившееся ему в каком-то романе мимоходом оброненное словосочетание «поп-алкоголик» больно резануло по глазам.., да что там – прямо по изболевшейся совести. Он знал, что выглядит затрапезно и часто бывает во время службы пьян, и не просто пьян, а пьян заметно, и не мог не обратить внимания на тот печальный факт, что традиционные подношения прихожан со временем стали состоять по преимуществу из водки, а то и из термоядерного первача. Случалось, он слезно молил Господа избавить его от напасти, но Всевышний, по всей видимости, был сильно занят в других местах и предоставил батюшке выпутываться из своих проблем самостоятельно.
Храм Святой Троицы в деревне Мокрое был велик и просторен. Возвели его в начале прошлого века на деньги купца первой гильдии Захария Дремова. Строили тогда на века, но это все-таки изначально была церковь, а не соляной склад, в качестве которого ее использовали лет двадцать сразу после революции, и не хранилище минеральных удобрений, в которое она превратилась позднее. Все эти перипетии оставили неизгладимые следы на стенах и внутреннем убранстве храма, и, когда отец Силантий принял возвращенное православной церкви строение, оно представляло собой печальное зрелище.
Было это пять лет назад. Пять лет ушло у батюшки на то, чтобы привести доставшуюся ему руину в божеский вид, пять лет трудов и забот, для которых, по мнению отца Силантия, он был уже староват. Нужно было выскрести, отмыть и отчистить храм, восстановить купола, сменить всю без исключения столярку, короче говоря, произвести капитальный ремонт здания, ухитрившись при этом обойтись минимумом затрат. Начальство советовало собирать деньги среди прихожан. Впервые услышав этот совет, отец Силантий с трудом сдержал богохульные слова, готовые сорваться с языка, и смиренно заметил, что его прихожане в большинстве своем сами нуждаются в помощи.
Так или иначе, но храм со временем приобрел более или менее приличествующий подобному строению вид, перестав напоминать руины Брестской крепости. По крайней мере, здесь перестало вонять удобрениями и собачьим дерьмом, и отец Силантий, вздохнув с некоторым облегчениям, стал смиренно служить Господу на новом месте, в меру слабых сил своих наставляя прихожан на путь истинный. Прихожане, хоть и немногочисленные, относились к батюшке с должным почтением и даже, можно сказать, любовью. Он всегда умел подобрать нужные слова, чтобы утешить страждущих и скорбящих, а послушать его проповеди порой приезжали из самой Москвы. То обстоятельство, что наиболее блестящих своих успехов на ораторском поприще отец Силантий достигал именно в те не редкие моменты, когда бывал не вполне трезв, прихожан, казалось, нисколько не смущало. Напротив, это делало его как бы более понятным и доступным, почти что одним из них, и, возвращаясь со службы, он порой слышал, как жены пилили своих мужей: вот, говорили они, посмотри на батюшку, тоже ведь любит это дело, а какой души человек, как говорит – заслушаешься! А ты только и знаешь, что песни матерные орать, под забором лежа… Говорилось все это шепотом и на приличном расстоянии, но батюшка с малолетства обладал исключительным слухом, который с годами даже не думал слабеть, а, наоборот, казалось, даже немного улучшился.