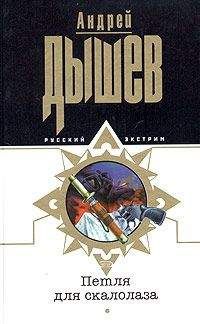– Глупостью не заниматься, – предупредил из темноты Тенгиз. – По нужде не выходить. – Он зевнул. – А то буду делать пиф-паф.
Не знаю, что он имел в виду, когда говорил о глупостях, но, как только у входа раздалось ровное посапывание, Мэд вплотную придвинулась ко мне, провела пальцами по моим щекам, коснулась губ. Я ее не видел. В глазах, утомленных ослепительным светом, кружились зеленые пятна, плыли, сверкая золотом, горячие ледники, сахарные конусы, сыпался голубыми стеклянными кубиками ледопад… Темнота с легким запахом апельсиновой жвачки неистово целовала меня, словно губы мои были обмороженные, помертвевшие, и она возвращала их к жизни.
За ночь палатка промерзла насквозь, и когда я разжег примус, то стены и потолок, мохнатые от инея, словно усыпанные кристаллами соли, потемнели и обильно прослезились. Пришлось срочно эвакуировать спальные мешки и выкидывать их на снег.
Пока мы с Мэд ползали по палатке, собирая вещи, Глушков смотрел на нас через щелочки опухших век страдальческим взглядом, словно лежал на смертном одре, а мы его отпевали. Его состояние у меня не вызывало беспокойства. Слабость и головная боль – естественные симптомы у человека, который впервые поднялся на высоту выше четырех тысяч метров. Лучшее лекарство от «горняшки» – это активные движения. Я сказал об этом неприметному герою, но он не отреагировал.
Наши разбойники с утра были немногословны и малозаметны. Тенгиз был похож на исправившегося хулигана: он пожелал нам с Мэд доброго утра, причем к девушке обратился по-немецки («Guten Morgen, Frau!»), растопил на примусе кружку снега, умылся, почистил зубы и причесался. Его просветленные глаза излучали добро и кротость. Мне казалось, что он непременно должен сказать словами из анекдота: «Это я только кажусь злым и сердитым, а на самом деле я белый и пушистый». Бэл, не дожидаясь, когда Мэд приготовит кофе, отправился топтать тропу по перемычке, соединяющей предвершинный взлет Донгузоруна и пирамиду Когутая, увенчанную каменным козырьком, словно кепкой.
Я сидел на камне, греясь в солнечных лучах, и смотрел на комки облаков, налипшие к краям кулуаров и ущелий. Солнечный свет топил их, как снег; прямо на глазах облака таяли, редели, и вскоре сквозь них можно было различить мохнатые островки леса, тонкую нить шоссейной дороги и россыпь серых домиков. Гельмут, раздевшись до пояса, натирал себя снегом. На фоне ледников, облаков и дымчатой глубины ущелья он напоминал героя рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни.
– Как вы думаешь, Стас, – говорил он, кряхтя и охая. – Когда я был молодой, я был очень здоровый мужчина?
Гельмут напрашивался на комплимент. Его впалая грудь, поросшая редкими седыми волосками, покрылась розовыми пятнами. Руки казались непропорционально длинными. Над поясным ремнем выпирал дряблый животик. Для своих лет Гельмут выглядел неплохо, но я не мог сказать, что немец пышет здоровьем.
– Наверное, вы запросто купались в проруби, – помог я Гельмуту «удивить» меня.
– В проруби? – усмехнулся он, принимая из рук Мэд полотенце. Тщательно вытерся, надел плотную байковую майку, поверх нее – свитер. – Ихь воле видерхоле… Я должен вас разучивать…
– Разочаровать, – поправил я.
– Я был тонкий, слабый солдат, – с удовольствием признался Гельмут. – Когда мы шли на три тысячи, я не мог нести винтовку. Падал, падал, кушал снег. Лойтнант кричал, фельдфебель кричал… Я много болел. Пневмония, ангина, тонзиллит.
– С трудом верится.
– Но это есть правда. – Гельмут застегнул куртку и пригубил пластиковую чашку с кофе, которую ему подала Мэд. – Все говорят: плохо, что молодость убежала. Я говорю: хорошо. Молодость – это есть болезнь. Когда человек молодой, он делает ошибки. Много ошибок. Потом он их исправляет. Всю жизнь, которая осталась, он лечит раны.
– А вы уже залечили свои раны?
Гельмут не сразу ответил, глядя в чашечку и причмокивая губами.
– Трудный вопрос.
Мэд подлила мне кофе. Она приготовила его в полуторалитровой алюминиевой кастрюле и не рассчитала – получилось слишком много, если учесть, что Бэл и Глушков в утренней трапезе участия не принимали. Тенгиз, как и я, не отказался от добавки и, прихлебывая из чашки, с аппетитом уминал бутерброд с паштетом.
Через полчаса, когда мы свернули и упаковали палатку в чехол, вернулся Бэл. Кажется, он был не очень доволен результатами разведки маршрута.
– Здесь, – сказал он мне, водя по карте пальцем, – ледовая стена. Пройти очень трудно.
– Знаю, – ответил я.
– А если обойти по леднику Долра?
Я пожал плечами.
– Как прикажешь. Но так мы потеряем день.
Бэл задумался. Потом кивнул на Глушкова, который, сидя на снегу, расправлял вкладыш в ботинке.
– Как у него с ногами?
– Ничего страшного.
– А почему он такой зеленый?
– Гипоксия.
Бэлу не понравилась моя манера отвечать на вопросы. Он ждал от меня инициативы, предложений и советов. Я же демонстрировал полнейшее равнодушие к замыслам террористов и ставил себя вровень с остальными заложниками.
– Так я не понял, – с оттенком нервозности переспросил он. – Ты сможешь провести нас по ледовой стене?
– Завинтим крюки, – упаковывая свой рюкзак, ответил я. – Навесим перила. Пойдем на жюмарах.
– Это сложно?
– За Глушкова поручиться не могу.
Бэл скрипнул зубами и, скривившись, как от горькой пилюли, посмотрел на неприметного героя, который все никак не мог натянуть на ногу ботинок.
– Пусть уйдет с моих глаз, – сквозь зубы произнес Бэл Тенгизу.
– Эй, дегенерат! Глушкинштейн! – крикнул Тенгиз, мелко и часто сплевывая под ноги. – Мы тебя отпускаем! Вали отсюда.
Я не ожидал столь щедрого жеста со стороны бандитов. Но свобода, которую они дарили Глушкову, была условной. Все равно что открыть дверь в летящем самолете и сказать пассажиру: «Ты свободен, парень!» Без страховки, без помощи Глушков не смог бы спуститься.
– Пожалей парня, – сказал я Бэлу. – Он сам не дойдет. Первая трещина станет его могилой.
– Может, мне его проводить до Азау? – начал заводиться Тенгиз, входя в свой привычный образ. – Может, обаный бабай, мне его на руках отнести, на шею посадить?
– Мне кажется, что ты себе льстишь, – заметил я.
– Ты на что намекаешь?
Я повернулся к Бэлу.
– Разумнее было бы отправить вниз Глушкова и Гельмута.
– Бэл, он вконец обнаглел! – воскликнул Тенгиз. – Может, всех вниз отправить?
– Заткнитесь оба! – прервал Бэл и посмотрел на меня, блеснув черными очками. – Дай немцу веревку и необходимое «железо». Пусть уходят вдвоем.
– Да ты что! – возмутился Тенгиз, но Бэл подвел черту:
– Все! Разговор закончен.
Бэл поторопился закрыть тему. Когда я достал из рюкзака моток пятидесятиметровой веревки и кинул его Глушкову, тот наклонился, поднял веревку, подошел ко мне и вернул бухту в мой рюкзак.
– Я никуда не пойду, – сказал он.
Я ударил его по руке, взял за грудки и как следует тряхнул.
– Парень, ты нездоров! – зашептал я. – У тебя кислородное голодание мозга! Сам ты можешь этого не осознавать, но мне ты способен поверить?
Он не сопротивлялся, и лицо его оставалось спокойным. Глушков терпеливо дожидался, когда я оставлю его в покое. Он ничего не соображает, понял я, отталкивая его от себя. Глушков сел в снег и не торопился снова встать на ноги.
– Инструктаж закончен? – спросил Тенгиз, подходя к нам. – Тогда разберись с фрицами.
Я повернулся и посмотрел на Гельмута. Старый немец крепко обнимал внучку.
– Гельмут, вы готовы? – крикнул я, догадываясь о том, что он мне ответит.
– Что я должен делать? – спросил Гельмут.
– Отправляться вниз.
Он отрицательно покачал головой.
– Я хочу один вопрос, Стас! Я вам прикажу: иди вниз, но оставь здесь свою дочь, свою жену. Вы пойдешь?
– Обаный бабай! – воскликнул Тенгиз. – Я такого еще не видел! Мы сроднились так, что нам теперь вовек не расстаться!
– Не надо делать вид, будто ты не понимаешь, почему Гельмут не уходит, – ответил я.
– А этот обмороженный Глушкевич почему не скачет вниз?
– Спроси его сам.
Тенгиз шагнул к сидящему Глушкову и коснулся его спины кончиком ботинка.
– Эй, чучело! Тебе мало приключений?
– Вы дарите мне свободу? – спросил Глушков, не оборачиваясь.
– Точно так, Глухенберг. И свободу, и веревку к ней в придачу.
– Значит, я могу поступать так, как захочу?
– Именно, кролик. Что в твоей больной голове взбредет, то и делай.
Последний, пятый, крюк входил в тело ледника, как в масло, но на последнем довороте раздался оглушительный треск. Ледяная глыба дала трещину, которая белой паутиной пронзила голубую толщу льда. Я повис на веревке, упираясь «кошками» в стену. Подо мной, метров на двадцать ниже, замер Гельмут.
– Эй, что случилось? – донесся до меня голос Бэла.
Я промолчал. Это казалось чудом, что трещина не увеличивалась в размерах и кусок льда размером с платяной шкаф, который она отсекла, оставался неподвижен.