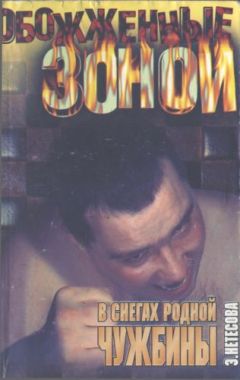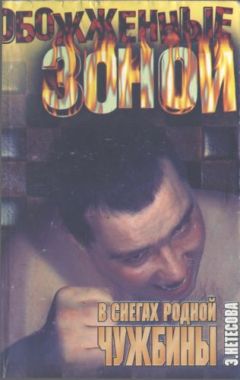Ольга показалась ему той, какую искал, и, не откладывая в долгий ящик, не теряя времени, он сделал ей предложение, которое она приняла не раздумывая. А вскоре переехала к мужу насовсем.
— Так-то оно и лучше, чем по общежитиям скитаться. Теперь спокойно учиться будешь, — радовалась мать Ольги за дочь, сумевшую вырваться из глуши.
Когда Дуняшка рассказала старшей сестре, что видела в магазине Федьку, Ольга не поверила. Отмахнулась небрежно:
— Похожего видела. С того света не возвращаются…
И, только взяв в руки уголовное дело Федора, поверила, что жив он.
Увидев его, разглядывала с любопытством.
«Как удалось ему выжить?»
Федька не смотрел ни на кого. Даже последним словом подсудимого не воспользовался. Ни о чем не просил суд и обвинение. Это задело за живое. И Ольга решила дать срок «на всю катушку».
— Ты еще взвоешь, услышав решенье, — злорадно усмехалась, выходя из совещательной комнаты.
Все в зале встали при появлении судьи и заседателей. Сидеть остался лишь Федор.
Ольга глянула на него, произнося последние слова приговора. Встретилась с ним взглядом. Поняла — узнал. И вдруг услышала: «С-сука!» — сказанное громко, на весь зал, единственное слово.
Ольга побледнела от ярости, но конвой спешно вывел Федьку из зала суда, впихнул в машину, которая повезла вора в тюрьму, где ему надо было ждать этапа.
Конвой сидел в кабине и не увидел, как исчез из кузова подсудимый. В тюрьму машина вернулась без Федьки.
В одном из глухих проулков простояла машина минуты две, ожидая, когда расчистят от угля проезд двое малосильных стариков. Этого времени хватило, чтобы открыть дверь ЗАКа, вытащить из него растерявшегося Федьку. Дальше было проще.
Еще до того, как милиция узнала о побеге, машина уже была далеко от города.
Федьке тут же нацепили «маскарад» и предупредили: не снимать его никогда. Вскоре он и сам увидел свои фотографии по всем городам. Над ними громадными буквами было написано: «Разыскивается опасный преступник…»
Когда в «малине» узнали обо всем, что с ним случилось, пообещали не спустить на холяву никому.
— Ни лягавым, ни судье-суке, — так сказал Влас.
И через две зимы, когда фартовые вернулись в город, успевший их забыть, «малина» ограбила ночью банк. А трое сявок, стоявших на «атасе», подожгли милицию и суд.
Съехавшиеся на пожар пытались спасти огромные бревенчатые дома, стоявшие рядом, полыхавшие так жарко и дружно, что подойти к ним близко никто не рисковал. И тогда на помощь пожарникам приехала милиция.
Никто не вспомнил о тех, кто находился в камерах, и пробивались к караулке, где отсыпались напившиеся с вечера милиционеры.
Влас хорошо знал расположение милиции. И, воспользовавшись общей паникой, вырвал решетки с окон камеры, выдавил стекло плечом, крикнул внутрь заветное:
— Линяй, кенты! — и скрылся в темноте. Следом за ним выскочили в ночь десятка два мужиков.
Запоздало протарахтели вслед им выстрелы, никого не задев и не поцарапав.
Лишь утром узнала милиция об ограблении банка. Но «малина» уже успела исчезнуть из города.
Их искали по всем чердакам и подвалам, в бараках и притонах, во всех злачных местах. Но тщетно. С десяток задержанных подтвердили свою непричастность к случившемуся, их пришлось срочно отпустить.
Лишь бывшая шмара, старая пропойца, рассказывала дворничихе, как ночью ворвалась к ней милиция.
— Я ж кемарила, как падла, на своей койке. С утра заложимши была. Ну и канала, как чистое дите! Даже обоссамшись. От грохоту всколготилась. С перепугу окно с дверями перепутала. Сунулась, думала, какой-нибудь соколик вспомнил. Глядь, блядь! В окне лягавое мурло! Я в дверь со страху. Меня за шиворот словили враз и требуют: «А ну! Покажь, старая курва, кого в постели греешь?» Я тут чуть не обложилась со смеху. «Да у меня с постели еще до войны последний полюбовник вывалился!» — отвечаю лягавым. А ихний старший змей глянул на меня и за свое: «С какой войны?» Я ему трехаю, мол, с той самой, с мировой. Еще тогда завязала. А он сызнова: «Где завязала?» Я и показала ему, коль сам не допер.
Дворничиха хохотала до слез, держалась за живот.
— Дак этот хрен моржовый, главный мусор, обещал меня в каталажку упечь. За то, что лягавого лишила достоинства. Оскорбила в присутствии мусоров тем, что показала похабное. Во, блядь! Да у него мурло срамней этого похабного! Я и сказала: слабо тебе, мент вонючий, с мужиками связываться? Вот и цепляешься ко мне. А я хоть и старая, в жисть с таким говном, как ты, в постель бы не легла. Чтоб память о настоящих мужиках не марать. Ну, тут соседи мой базар услыхали. Сбежались. Облаяли, турнули мусоров. А я всю ночь уснуть не могла…
Старая пьянчуга и не знала, что целую неделю жила под неусыпным наблюдением милиции… Но зря ждали. Никто не навестил бывшую кадриль. Ее ровесники, ее любови давно уж на тот свет ушли грехи замаливать. Она не соврала. Но милиция не верила никому.
Федька, оказавшись на воле, не сразу поверил в собственное счастье. Он ни на шаг не отставал от Власа, вырвавшего его из клетки.
От воров он и раньше слышал, что все «малины» при первой возможности выручают своих кентов. Но те были «законниками». Федька еще не стал фартовым. Его могли не выручать.
«Пятнадцать лет в зоне усиленного режима…» — били, будто кнутом по спине, последние слова приговора суда…
Федька не мог спокойно сидеть.
«Она сломала всю жизнь. Она хотела моей смерти. И до сих пор ходит по земле живая. Я даже не пытался убрать ее. А ведь давно пора убить гадюку. Иначе она опередит», — решил Федька. И спросил Власа, всерьез ли он надумал разделаться с Ольгой и как.
— Покуда припугнули. «Петуха» подпустили ей и лягавым. Если не поймут, не допрет до них, пустим в ход клешни. А накрыть ее, как два пальца обоссать, — ответил тот, не задумываясь.
Увидев Федькины фото, расклеенные по всем городам, процедил сквозь зубы:
— Нарывается, падла! Что ж, видать, родной кентель надоел. Помочь надо мамзели…
Но возвращаться туда, где «малину» разыскивала вся милиция, было опасно. Стоило выждать время.
К тому ж из мести рисковать собой никто не согласится. Это Федор понимал. Но недавнее пережитое не давало покоя, и Федька вставал и ложился с одной мыслью — убить Ольгу своими руками…
Но «малина» словно чувствовала Федькины намерения и увозила его все дальше от нее, заставляя забыть, заглушить боль.
— Вор не думает о бабе. Она — кайф на час. Свое справил и линяй! Чего мокрощелку всерьез держать? Она тебе не пофартила? Ну и хрен с ней. Все шалавы одинаковы! Придет твой час. Зажмешь ее в темном углу Там делай с ней, что хочешь. Мы придержим, чтобы не лягалась! — хохотали фартовые. А Влас добавил глухо:
— Если фортуна нас не кинет через кентель…
— Вот ты на судью зуб точишь. А у нашего Костыля не шмара, родная баба судьбу в штопор скрутила, — подал голос Цыган, самый вспыльчивый из всей «малины».
— Это верно! Довелось кенту хлебнуть из-за лярвы! — поддержал Влас.
— Да что тянуть резину? Сам трехну, — задернул занавеску худой угрюмый фартовый. И, пользуясь короткой передышкой до наступленья темноты, заговорил глухо: — Я со своей швалью пятнадцать лет проканителился. Мальчишкой на ней женился. Она на шесть лет старше меня. Ну и пахал, чтоб та тварюга ни в чем отказа не знала. Все на заработки давил. И чем больше приносил, тем меньше хватало. Все как в прорву какую шло. Говенной хозяйкой она была. Я, дурак, думал, что этот недостаток у нее единственный. И молчал. Терпел. А однажды вернулся с работы и чую: кто-то курил в квартире. Ну и спрашиваю, кто заходил. Она глаза вылупила. Спрашивает меня, с какого праздника напился? С чего придираюсь к ней, честной женщине? Обматерил я ее тогда за крик. А в душе сомненье закралось. Дай, думаю, прослежу за ней. Ну и нарисовался на хамовку в перерыв. До того на ходу давил. Жену берег от лишней мороки.
— А дети у вас были? — спросил Федор.
— Я ее с дитем взял. С девочкой. Удочерил четырехлетней. Самому в тот год едва восемнадцать исполнилось. Ну, вот так-то дернул дверь, а она на крючке. Я плечом надавил, ворвался в хату. Вижу: моя пропадлина халат едва успела натянуть, застегивает его на пуговки, а руки дрожат. В комнате никого. Но окно открыто. С чего бы это средь зимы? Я к окну. А там внизу в сугробе хмырь кувыркается. Вылезти не может из снега, прямо под окном. Схватил я с печки чайник с кипятком и вылил на него, чтоб не замерз, пока вниз не сбегу. Вырвал кобеля из сугроба. Он, падла, по пояс голый. И зло, и смех разобрали разом. Вся спина в волдырях от кипятка. Дал ему пинка, сказал, коль заявится еще раз в мою хату, прикончу гада. А сам домой. Отметелил суку так, что даже дышать не могла. И на работу пошел. А через час меня милиция забрала. За издевательство и садизм восемь лет впаяли. По заявлению бляди. Едва она приговор услышала, тут же на развод подала. И выписала из квартиры. Когда из зоны вернулся, она дверь не открыла. Пригрозила милицией. Я наплевал, сорвал крючок. И что думаешь? Эта сука с новым кобелем. Мужем назвала его. Я вещи свои потребовал. Она мне такое ляпнула, что не сдержался. Вмазал курве меж глаз. И ее хахаля под сраку из квартиры выбил. Он, сучий выблевок, ментов приволок. И меня снова в ходку. На этот раз на пять лет. Хотя сучара вышку мне на суде просила. Еще в тюряге взбрело, как выйду из ходки — грохну ее. Да фортуна опередила. За месяц до моего освобождения она сдохла. От болезни. Так и слиняла без моей подмоги на тот свет. Но, как я слышал, жутко подыхала. На стены от боли лезла. У всех прощенья просила. Да Бог знает, как шельму метить. Сполна хлебнула. И за меня. Так-то вот, кент! Тебя шлюха лажанула, меня — жена! Со шмары какой понт? То-то и оно, что все бабы одинаковы! И держать их надо не выше пояса! — жмурился Костыль.