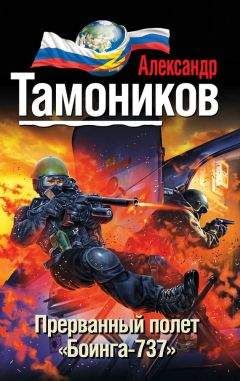Ознакомительная версия.
На счет «тридцать» он собирался мягко отстраниться и выскочить из дома. А пока время на нежности было — немного, но было.
Старший лейтенант Лазарев открыл окно и потянул ноздрями московский воздух, прогорклый от бензиновой гари. Голова раскалывалась. Что, впрочем, совсем не удивительно, учитывая вчерашний дым коромыслом. Погулял на славу, а поутру пришла расплата за веселье. Всем мужчинам она известна, однако всякий раз они забывают о ней… до тех пор, пока не начинается похмелье.
— Пора, — сказал Лазарев, не оборачиваясь. — Ты уж не скучай без меня, сестренка.
— Никуда я тебя не отпущу, — сказала ему в спину младшая сестра. — Вчера наклюкался и сегодня спозаранку куда-то намылился…
Лазарев обернулся. Сестра стояла посреди комнаты и, скрестив руки на груди, ждала, что он ответит на ее слова. Что посмеет возразить.
Она была полненькая и ужасно стеснялась веснушек, проступавших на ее вздернутом носике по прошествии каждой зимы. Носила мамины халаты и прическу соорудила себе тоже мамину — челка набок, пряди по бокам аккуратно заправлены за уши. При ее круглой физиономии следовало бы прикрывать волосами щеки, однако же она этого не делала. Никак не могла забыть покойную маму. Это трогало Лазарева до слез, хотя, разумеется, этих слез не видела ни одна живая душа. Они не для посторонних предназначались, ясное дело.
— Я не гулять, это другое, — сказал Лазарев, хлопая по карманам, чтобы случайно не забыть какую-нибудь вещицу, без которой потом как без рук. — Родина-мать зовет, ту‑ту‑ту. Срочный сбор, понимаешь?
— Понимаю, что тут непонятного, спаситель человечества? Сегодня здесь — завтра там.
— Ну не на гулянку же? И ты об этом прекрасно знаешь.
— Гулянку ты дома устраиваешь, скатерть белая залита вином… Не стыдно?
— Стыдно.
— А по глазам не заметно.
Лазареву эта нотация начала надоедать. Терпеливость не входила в число достоинств, которыми наградила его природа.
— Жу‑жу‑жу, — передразнил он. — Как механическая пила, честное слово.
— А ты гуляка несчастный! — парировала сестра.
Ей было двадцать пять, а Лазареву — под тридцать, так что они давно вышли из безмятежного детского возраста. Деревья больше не казались им большими, старики — умудренными жизненным опытом, а собственная жизнь — наполненной неповторимым смыслом. И все же что-то детское в Лазаревых осталось. Это помогало им выживать в суровом и не слишком ласковом к сиротам мире.
— Ну-ка, — выставил вперед мизинец Лазарев, — цепляйся.
Сестра повторила его жест, после чего, держась за мизинцы, они хором произнесли заветное заклинание:
— Мирись-мирись и больше не дерись.
— А если будешь драться…
— То я начну кусаться, — закончила стишок сестра и расхохоталась, заливисто и звонко, будто колокольчиками взмахнули.
— Я пошел? — полуспросил, полусообщил Лазарев, глядя себе под ноги.
— Иди, — тихо проговорила сестра. — Только ты вернись, хорошо, братик?
— Я вернусь, обязательно. — Он шутливо потрепал ее за пухлую щеку, обдавшую пальцы ласковым теплом.
— Ты мне вместо отца, не забывай, — прошептала она.
— А ты мне вместо мамы, — признался он еще тише.
На мгновение оба взгрустнули, вспоминая рано ушедших из жизни родителей. Потом неловко обнялись и качнулись в разные стороны. Не сказав больше ни слова, Лазарев подхватил вещи и покинул квартиру.
Стаса Козлова мать кормила домашними пирожками.
— Фантастика! — пробормотал старший лейтенант, слегка заикаясь и натужно глотая очередной кусок. — Так бы ел и ел, не вставая из-за стола.
— Еще бы! Вон ведь как отощал, — вздохнула мать. — Лидка, что ли, не готовит?
— Лида готовит. Но у меня не всегда получается поесть вовремя.
— То-то и оно. Питаешься плохо, мотаешься туда-сюда по свету как неприкаянный. Разве так можно?
— Нельзя, мама, — согласился Козлов. — Но иначе не получается. Так уж я устроен.
— Вот и отец твой был такой же. Все служба-служба. Дослужился. И чем его родина наградила за это? Памятником со звездой?
— Не говори так. Папе бы это не понравилось.
— Да знаю, знаю. — Махнув рукой, мать уткнулась носом в платок и несколько раз шмыгнула носом.
Сказать ей что-нибудь ободряющее? Приласкать? Так ведь расплачется, а времени утешать ее нет…
Поблагодарив за угощение, Козлов выбрался из-за стола и направился в прихожую, чувствуя себя тяжелым и неповоротливым, как слон в посудной лавке. Он заскочил к матери по пути на аэродром и нарвался на эти распроклятые пирожки, последний из которых до сих пор стоял поперек горла. Оказывается, она сама собиралась сегодня наведаться к нему в гости. С пирожками. Хорошо, что Козлов ее опередил. Стояла бы, бедная, у запертой двери и гадала: куда это ее сынок запропастился?
Он обернулся, поцеловал следующую за ним мать в щеку:
— Все, мамуля. Мне пора. До самолета два часа, а нужно еще на регистрацию успеть.
— Значит, отдыхать, сынок?
— Отдыхать, мама. Море, песок, пальмы. Классика жанра.
— Зря ты все-таки своих не взял, — сказала она, окончательно поверив в легенду, сочиненную Козловым на ходу.
— У них дела, — туманно ответил Стас. — В следующий раз отдохнем все вместе. Мне теперь часто будут отпуск давать.
— Я так за тебя рада, — улыбнулась мать.
— Я тоже рад.
Козлов улыбнулся и почувствовал себя законченным подонком. То, что придумал этот мифический отпуск, правильно, спору нет. Но теперь получалось, что он летит к морю, а мать бросает в жаркой летней Москве одну. Сын называется!
— В следующий раз обязательно тебя приглашу, — пообещал он, не веря ни единому своему слову.
— Да что ты, что ты! — отмахнулась она сухонькой ладошкой. — Тебе о семье заботиться надо. Зачем я вам там, дура старая!
— И вовсе ты не старая, — возразил Стас, привлекая ее к себе, — и вовсе не дура. Самая умная, самая лучшая, самая добрая…
Получив по поцелую в каждую щеку, мать одновременно смутилась и разулыбалась:
— Ой, да ну тебя! Пирожков с собой возьмешь? Я заверну…
Она метнулась в сторону кухни, но Козлов ее удержал:
— Какие пирожки, мамуля? Там же трехразовое питание.
— А в самолете?
— А в самолете тоже кормят будь здоров.
Стас чмокнул мать в обе щеки, решительно распахнул дверь и поднял левую руку в прощальном жесте, застыв на мгновение у порога. Если ему суждено погибнуть, то он должен запомниться матери таким: улыбающимся, беспечным, бодрым.
Сержант Прохоров женат не был, детей не имел, мать схоронил еще в детстве, а потому проживал в двухкомнатной квартире вместе с отцом и старшим братом, который в настоящее время валил лес где-то в Сибири, а может, и рукавицы шил. Прохора это не колыхало. Брательника он недолюбливал за блатные замашки, за понятия, за презрение ко всем людям, кроме воров. Отца уважал. Может быть, даже любил, хотя в душе своей копаться Прохоров не любил. Не мужское это дело.
Сложив вещи, он отправился на кухню, где отец сидел с развернутой над столом газетой. Кухня была маленькая, с закопченными углами, пожелтевшим холодильником и занавесками, не менявшимися со дня похорон матери. Может быть, Прохор это выдумал, но занавески были пыльными и давно сменили белый цвет на серый. Некому было заняться наведением уюта в доме Прохоровых. Хозяйка умерла, а из мужчин толковых хозяев не получилось, вечно они были заняты своими делами.
С шорохом свернув газету, отец предложил попить чайку на дорожку и тут же, не дожидаясь ответа, подхватил чайник, булькавший на плите. Прохоров не стал отказываться, опустился на скрипучий табурет, обхватил чашку двумя руками, шумно потянул кипяток. Крякнул с наслаждением, не отдавая себе отчета в том, что копирует отца, который всегда пил чай именно таким образом.
Посидели рядышком, прихлебывая и крякая. Разговаривать особо было не о чем, да и незачем. Все и так было ясно: младший уезжает, старший остается. Бог даст, свидятся, нет — так нет.
— Печенье чего не берешь? — спросил отец. Как всегда, провожая сына в опасный путь, он делал вид, что ничего особенного не происходит. Ну, чаевничают мужики, что здесь такого особенного?
— Неохота, — буркнул Прохоров, то и дело окуная губы в обжигающе горячий чай.
Отец присмотрелся к его рукам, поставил чашку и поинтересовался, хрустя печеньем:
— Что у тебя с лапищами?
— А что такое? — прикинулся непонимающим Прохоров.
— Ты мне ваньку не валяй, — строго произнес отец. — Что с руками, спрашиваю? Все костяшки на кулаках ободраны. Опять кому-то мозги вправлял?
— Я не мозгоправ, батя.
— Справедливость восстанавливал?
— Я не судья, батя, — гнул свое Прохоров.
— В чем же тогда дело? — не отставал отец, который иногда становился на редкость въедливым.
Ознакомительная версия.