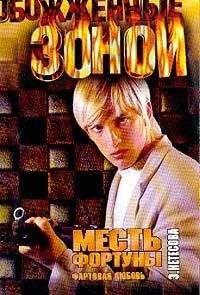— Заложил, падла, мусорам «малину», теперь сумей подогрев раздобыть. На стреме умел засыпаться, теперь парься со всеми, паскуда вонючая!
И ничего. Кончались сроки. Забывались промахи. И Дрозд возвращался в «малину» вместе со всеми.
Тогда Дрозда и вывели из закона. Долго он не решался показаться на глаза Дяде. Но однажды случай подвернулся.
В подвале, где под ноготь распивал вино с ханыгой, услышал, что его сожительница работает в ювелирном и просила сегодня не напиваться: мол, золото привезут. Пока примем товар, возвращаться придется поздно. Приди встретить.
Дрозд вмиг протрезвел. И, оставив собутыльника спать в подвале, заспешил к Дяде. Тот выслушал недоверчиво. Но через день передал для Дрозда пачку червонцев.
Так и повелось с тех пор. Но ни на полшага ближе не подпускал к себе шныря новый пахан. И постоянно, это Дрозд чувствовал даже лысиной, не доверяли ему.
Была у Дрозда одна слабость, общая для всех фартовых: женщины. Да и как без них? Когда водка льется рекой, а стол ломится от закуси, самое время вспомнить о том, что ты — мужик.
В былые годы Дрозд пользовался успехом даже у молодых проституток. Правда, привязанности особой ни к одной не имел. Но покутить с ними после удачного дела любил и не упускал случая навестить разгульный район города, расположенный сразу за базаром, который все южно-сахалинцы звали Шанхаем.
Дядю Дрозд знал с молодости. Вместе они обделывали дела: пока медвежатник потрошил сейф, Дрозд на стреме стоял.
Но у фартовых дружба клеится, пока дело ладится. Чуть сорвалось, все забыто, стерто из памяти.
И Дрозд незаметно состарился. Как и все фартовые, он знал, что Дядя отошел от воровской жизни. «Малина» о нем жалела. Второго такого медвежатника найти было трудно. Ни у кого не имелось столь удачливой отмычки. И Дядя никому ее не показывал. Может, и отомстила бы «малина» медвежатнику за уход, да замены не было, а надежда на возвращение Дяди — оставалась. Потому, когда это произошло, воры в законе без колебаний признали Дядю паханом, на время вынужденного отсутствия Берендея.
Дрозд, крепко сжав сотенную, пошел к рынку, где жизнь пробуждалась раньше всех. Здесь можно было жевать на ходу, послушать брехи приезжих торговок, стянуть с прилавка литровую банку кетовой икры и, купив бутылку водки, завернуть к безотказной, по причине возраста, Тоське. Толстая и морщатая, она давно зарабатывала обслуживанием любителей сексуальной извращенности. Потому что даже по глубокой пьянке трезвели фартовые, увидев Тоську голой. И ни по какой погоде, даже сявки, не соблазнялись ею, считавшейся ранее смачной бабой.
Дрозд ходил к Тоське до обеда, когда та бывала свободна. Правда, в последние годы она была свободна почти всегда. Но шнырь привык к своему времени и не нарушал заведенный порядок.
Дело не в удовольствии. Не мог Дрозд выпивать в одиночку. К тому же Оглобля, как звали Тоську законники, была слабостью шныря за безотказность. Она не брезговала Дроздом. Никогда его не прогоняла. И, взяв свой червонец, чмокала Дрозда в щеку с привычным равнодушием.
Любила ли она кого-нибудь в своей жизни? Это Дрозда не интересовало. Говорили, правда, что раньше Оглобля была пылкой бабой, но не век же травке зеленеть!
Шнырь знал, что Тоська всю жизнь обреталась в Шанхае, где всегда ютились городские проститутки. И едва ли не десяток «малин» хорошо знал ее хазу.
Оглобля была не дура выпить на халяву. Но если кто-то из клиентов пытался уйти от нее не уплатив, Тоська вжимала его в угол мощным бюстом так плотно, что мошенник рад был последние портки оставить здесь, лишь бы вторично не подвергнуться экзекуции.
Что-что, а цену своим услугам Тоська знала.
Дрозд никогда не пытался обмануть бабу. За многие годы она научилась доверять ему больше других и иногда открывала кредит, которым шнырь старался не злоупотреблять.
От Оглобли никогда не выносили побитых или зарезанных воров. Все покидали притон на своих ногах. Не то, что у других проституток. Там случались драки с поножовщиной.
Шнырь, набив карманы пакетами и свертками, заколотился в знакомую дверь. Когда он был здесь в последний раз? Пожалуй, месяц прошел.
Услышав знакомое шарканье, Дрозд откашлялся, червяком изогнулся для приветствия.
Едва в проеме увидел измятую личность старой знакомой, сказал, осклабившись:
— Наше — вашим…
Тоська сграбастала его одной рукой из-за двери. Втащив из коридора за шиворот, спешно захлопнула дверь.
— Ты чего? — опешил Дрозд.
— Лягавые вчера нарисовались ко мне. Ночью. Со шмоном. Все на уши поставили. Минетчицей обзывали. Фартовых искали. Их у меня уже с полгода не было. Молодые всех отбили. Без куска порой сижу. А чем я других хуже?…
— Зачем фартовые понадобились мусорам? — перебил шнырь.
— Мне почем знать. Тебе виднее.
— Что ты им натрехала?
— Ничего. Голосила, как сдуру. Зачем, мол, старуху обижаете? С прошлым завязала. К смерти готовлюсь. Они на слово не поверили. Ну а уходя извинялись. Ты-то хоть никого на хвосте не приволок? Никто не засек во дворе, когда ты сюда шел? — выглянула Тоська в мутное окно.
— Никого не было! — дернулся к двери Дрозд.
— Куда? В случае чего в окно и на огород выскочишь. Там — прямиком на базар. Все от меня так линяли. Никого не накрыли. И ты не трепыхайся. Не впервой тут.
Дрозд выставил на стол угощенье. Разворачивая один сверток за другим, нарезал колбасу и селедку, корейскую капусту чимчу, разделывал крабьи ноги. Кетовую икру выложить из банки было некуда.
Из посуды у Тоськи были лишь стаканы. Не утруждала себя баба лишними хлопотами. И, залив в горло стакан водки, тут же отправила туда кусок колбасы величиной с кулак, подпихнув его нечищеной жирнющей селедкой.
— Ешь, Тоська, тварь патлатая. Ты голодная, как собака. А и я не счастливей тебя. Пей, покуда живы! — налил шнырь бабе еще полстакана.
— А любовь когда? Иль погодишь малость? — пропихивала Оглобля остаток колбасы.
— Имеем время, — успокоил Дрозд.
Наевшись, Тоська подобрела, даже улыбаться начала лениво, захмелев.
Дрозд смотрел на эту улыбку завороженно. Когда-то Тоська была неотразимой. Ее продажная улыбка снилась фартовым на холодных нарах и шконках Колымы. В ее честь слагались трогательные песни в бараках. Их подхватывал прокравшийся колымский ветер и, подвывая зэкам на все голоса, разносил песни по зонам. Но ни одна из них не ворвалась сюда, не прозвучала.
А все потому, что многие любили ее одну. Она любила всех сразу. Подруга удач и застолья, Тоська никого не оплакивала, никого не пожалела; ни один из- поклонников не застрял в ее душе и памяти. А сердце проститутке иметь не полагалось. Ни к чему оно ей было.
Оглобля вскоре совсем разомлела, видно, и впрямь, давно не пила. Дрозда, как, впрочем, и других, Тоська никогда не стеснялась. Она расстегнула кофту, сдавившую грудь, и запела гнусаво:
Не люби вора, вор попадется,
а передачку носить не понравится.
А я любила вора и любить буду,
Я носила передачу и носить буду.
Потом, обхватив шныря рукой за шею, повалила привычно на обшарпанный, замызганный диван. Дрозд млел от счастья. Купленного, короткого, как миг.
— Тоська, лярва, змея ползучая, ведь умеешь радовать, но почему без сердца? — вопил шнырь.
Оглобля вскоре оставила Дрозда в покое. Отпила портвейн из горла, сказала шнырю, уже посуровев:
— Гони башли и хиляй. Да кентам скажи, что мусора по ним, видать, шибко соскучились.
— Глаза б мои их век не видели, — сплюнул Дрозд.
— Пахану передай: коль без подогрева держать меня будет, долго не выдержу, — сказала Тоська.
— Это как понять?
— То не для твоей тыквы. Он поймет.
А в это время к Дяде пришли двое законников, хозяева самых больших и отчаянных «малин».
Пахан подсел к столу:
— Навар поделили честно?
— Как мама родная, — рассмеялся фартовый, которого все «малины» знали по кличке Рябой. Второй, с кличкой Кабан, лишь молча кивнул громадной черной головой.
— Лягавые нас по городу шарят. А потому не надо давать им- опомниться, завтра ночью берем универмаг. Центральный. Там на втором этаже ювелирный отдел есть.
— Его же после сегодняшней ночи на особую охрану возьмут. Засыплемся. Зачем рисковать? Надо дать лягавым успокоиться. А уж потом точку брать, — не согласился Кабан.
— Пустое лепишь. Пару дел провернуть успеем, — настаивал Дядя.
— Универмаг на самом пупке. Как к нему подвалить? Каждый угол виден, — перечил неуверенно Рябой.
— Вякаешь, как шнырь. Кто ж для нас входные отопрет? С крыши его брать надо. А на нее с соседнего жилого дома выйдем. Там уже по водосточной трубе и — в окно, — говорил Дядя.
— По трубе застукают. А вот если на чердак попасть — прямой понт. Там в подсобку залезть можно. Она проветривается через люк, который на чердак выходит, — предложил Кабан.