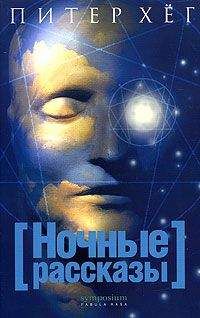Так что, если ваш деверь будет упорствовать, он свернет себе шею и увлечет в своем падении и всех вас…»
Наступила пауза. Вероятно, мэтр Морель на другое конце провода тоже замолчал под впечатлением услышанного.
— Это все… Что я решил?.. Продолжать а гаку… Нет, сегодня не приезжайте… Мне надо привести в порядок кучу бумаг. Позвоню вечером или завтра утром… Возможно, на несколько дней поеду в Кан… В любом случае увидимся завтра здесь или там… Я получил письмо от Бастара… Арондель снова самовольно отправил в Маколи жандармов… Поговорим завтра…
Он повесил трубку. Секретарь его старательно раскладывал бумаги по папкам. Внезапно Мишель вздрогнул. Он услышал голос стоявшего к нему спиной Фершо:
— Держу пари, вы не одобряете меня.
— Я так не думал! — с живостью ответил тот.
Подкладывая новые поленья и словно разговаривая с самим собой, Дьедонне продолжал:
— Брат оставался со мной в лесу лишь в течение пяти лет… Самых трудных, кстати… Если я когда-нибудь найду, то покажу вам его карточку тех лет. Сначала он отправился в Бразза… Потом, когда потребовался человек, чтобы заниматься финансовыми делами компании в Европе, переехал в Париж.
Похоже, он хотел добавить: «Вот кем он стал!»
Расхрабрившись, Мишель быстро спросил:
— Вот чего я не могу понять — как мелкий чиновник может выступать против генерального прокурора и министра? Я знаком с сыном Аронделя…
— С кем?
— С сыном Аронделя. Они из Валансьенна. Пять лет назад мы жили на одной улице. Отец его приезжал на полгода через каждые три года. Я часто встречался с ним.
Его сын — один из моих приятелей. Он изучает медицину…
И едва глупейшим образом не добавил: «Он чуть было не увел у меня невесту…»
Мишель был бы рад и дальше разговаривать об Африке и Аропделях, о делах. Но по поводу Аронделя Фершо лишь заметил:
— Наверняка маменькин сынок.
И, не ожидая ответа спросил:
— А вы? — словно догадавшись, что в той среде Мишель выглядел бедным родственником, потому что был всего-навсего сыном мелкого коммерсанта-неудачника, вынужденным зарабатывать на жизнь, вместо того чтобы продолжать учебу.
Он наверняка гак думал, потому что вдруг заговорил о себе:
— Моя мать была уборщицей. Ее рано выдали замуж. Муж бросил ее через два года. Больше о нем никто не слышал. Наверное, уехал за границу. Кстати, он не мой отец.
Он больше не рассматривал бумаги на столе, не говорил о работе. Ни разу еще атмосфера в этой голой и банальной комнате не казалась такой располагающей.
Мишелю очень хотелось, чтобы их разговор продолжался и дальше.
— Насколько я знаю, моим отцом был мировой судья, некий господин Брен. Я его почти не помню… Маленький, жирный, очень ухоженный человечек, очень розовый, с голым блестящим черепом, всегда семенивший.
Лучше помнятся улица, красивые новые дома, широкий тротуар, газон между ним и проезжей частью.
Матери было сорок лет. Худая и плоская, она не отличалась особой привлекательностью. По утрам она убиралась у него.
Она никогда ничего не рассказывала… Мы жили в одной комнате, в бедном квартале… Иногда она водила нас к судье… Родился брат… Мне было лет шесть, когда господин Брен умер от апоплексического удара. Мать Думала, что теперь мы разбогатеем, так как тот обещал, что не забудет ее в своем завещании. Завещания не оказалось, и все состояние отошло к кузенам и племянникам.
Мы переехали… Позднее мать поступила в прачечную — она стала болеть, и ей было трудно бегать по домам, как прежде…
Они переглянулись. Мишель был под впечатлением этого рассказа, он гордился, что Фершо с ним так откровенен. Ему хотелось поблагодарить его, сказать:
«Возможно, я не был так несчастен, но все равно страдал от окружающего убожества. И поклялся, что когда-нибудь…»
Стоило ли это делать? Фершо и так все знал. Однако под восторженностью Мишеля скрывалось и менее благородное чувство, которое он поспешил подавить. Значит, этот великий человек был лишь незаконным сыном мирового судьи и поденщицы?
— В Убанги у меня в разных конторах и факториях работало немало молодых людей. Большинство уже после месяца службы начинали требовать прибавки.
Почему он отказывал им в этом? Фершо был жаден.
Развратен. Но мог ли он себе представить, что его секретарю пришли в голову такие мысли!
— Брат теперь не уснет… А там он держался здорово!
Моя нога…
Он выставил вперед свою деревяшку и погладил ее.
— Это случилось на четвертый год. В то время мы искали каучук в самых отдаленных уголках леса. Сам не знаю, как я поранился. Может быть, шипом? Началась гангрена. Чтобы добраться до врача, понадобилось бы плыть на пироге несколько недель. Однажды ночью я сказал брату: «Послушай, Эмиль, если ты не отрежешь ее, я сдохну тут…»
На секунду он закрыл глаза. Разве этот человек, которого считали таким мужественным и который несомненно был им, нуждался в восхищении мальчишки? Неужто он оказался настолько сентиментален, чтобы расчувствоваться, разглядывая портрет брата?
— От него потребовалось немалое мужество, уверяю вас… Не знаю, смог ли бы я это сделать на его месте.
А через десять лет, разведясь в Париже с первой женой, портнихой, он женился на дочери префекта. Один из моих первых служащих потом тоже стал префектом.
Он замолчал и вдруг бросился к окну, под которым Арсен заводил машину.
— Что вы делаете? — спросил он, открыв окно.
— Еду в Вер забрать белье из стирки.
— Почему вы не забрали его, когда возвращались из Кана?
— Спешил: Жуэтте была нужна баранья нога.
— Вот так всегда! Зря жжем горючее.
Фершо с недовольным видом закрыл окно, вернулся к огню погреться и огляделся, словно потеряв нить разговора. Это окно, голос Арсена, порыв холодного и влажного воздуха, ворвавшегося в помещение, рассеяли атмосферу интимности, о чем Мишель сразу пожалел.
— Вернемся к бумагам. Разложите их. Если что-нибудь будет непонятно, спрашивайте меня.
Он не курил, не пил, мог часами ничего не делать.
Мишелю надлежало разобрать сотни писем, прочитать их, чтобы знать, куда положить. Подчас при этом он сталкивался с записями одного из своих предшественников, видел попытки навести порядок и невольно задавал себе вопрос: а не случится ли с ним то же самое, и через несколько месяцев другой Моде, завербованный в Париже или в ином месте, не явится ли сюда, как приблудный пес, чтобы занять место в этом доме, где будет слушать откровения Фершо, способного исповедоваться перед первым встречным, возможно, из чувства презрения к себе подобным?
Через полчаса, в течение которых в комнате слышался лишь шелест бумаг, Дьедонне Фершо, не сказав ни слова, вышел, поднялся на второй этаж. Некоторое время еще был слышен стук его деревяшки, потом он улегся на свою походную кровать. Фершо обладал способностью засыпать в любое время суток, если только не играл в карты или не диктовал письма в два часа ночи.
Ему было тогда, наверное, лет двенадцать. Дело шло к Рождеству. Вспомнились улицы, оживление на них, предпраздничные запахи. Христовы ясли возле церквей и елки на повозках. Уже стемнело, когда он в четыре часа вышел из школы. Что в точности произошло потом, он позабыл. Помнил только, что, вернувшись домой, очень разозлил мать. Он довел ее до такого состояния, что в конце концов, испугавшись, пустился наутек по коридору. Открыл парадную дверь и выскочил на улицу — у его ног упала туфля, брошенная в ярости не очень ловкой рукой.
В тот вечер, бродя по своему кварталу, он впервые ощутил какое-то особое чувство тревоги, которое этим, вероятно, ему и запомнилось. Он разглядывал знакомые лавки, пятна света и теней, газовые фонари, фигуры прохожих, но весь этот мир был словно лишен своей привычной основательности. И он, в этом лихорадочном состоянии, со слезами, с застрявшим в горле комом, со стыдом, был отторгнут этой действительностью.
Сходное чувство испытал он, когда бесшумно закрыл маленькую дверь в массивном портале на улице Канонисс. Ему казалось, что он как бы видит себя со стороны — светлое пятно желтого плаща в темноте чужой улицы. Так что невольно возникал вопрос: что он тут делает?
Он вышел из почти незнакомого дома на цыпочках, украдкой, со страхом и чувством унижения и, машинально оглянувшись на слабо освещенные окна напротив, бросился к улице Сен-Жан, чтобы поскорее окунуться в ее шум и движение.
Разглядывая прохожих, витрины, у одних — убогие, у других — привлекательные, с выложенными на них веером кочанами увядшей цветной капусты, муляжами дичи в окружении фальшивых колбас в серебряной бумаге, он различал в глубине лавок торговцев, занятых своим обычным делом. И тогда невольно спрашивал себя: кто из них — он сам или все эти люди — выпадает из действительности, и не является ли улица Канонисс частью тех ночных кошмаров, при воспоминании о которых краснеешь, когда просыпаешься?