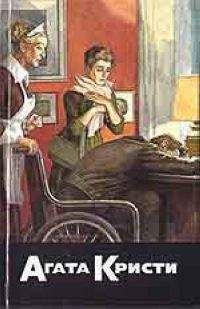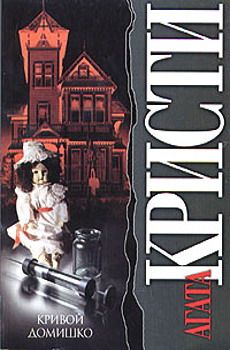— Тщеславие?
— Да. Мне еще не приходилось видеть убийцу, который не был бы тщеславным… В девяти случаях из десяти их в конце концов выдает тщеславие. Убийца, конечно, боится быть пойманным, но не может преодолеть чувство самодовольства и желание похвастать и, как правило, считает себя слишком умным, чтобы позволить себя опознать. И еще одно обстоятельство не следует упускать из виду, — добавил он. — Убийце хочется говорить.
— Говорить?
— Да. Видишь ли, совершенное убийство обрекает преступника на полное одиночество. Ему хочется рассказать кому-нибудь все… но он не может этого сделать. И в конце концов это желание становится нестерпимым. И тогда… если уж он не может рассказать о том, как он совершил убийство, то начинает говорить о самом убийстве… обсуждать подробности, выдвигать версии… снова и снова возвращается к этой теме. На твоем месте, Чарльз, я повел бы поиск именно в этом направлении. Возвращайся туда, познакомься поближе с каждым из членов семьи и заставь их говорить. Конечно, нельзя ожидать, что все пойдет как по маслу. Виновен человек или не виновен, он будет рад случаю поговорить с посторонним, потому что постороннему можно сказать то, чего не скажешь близким. Однако вполне возможно, что ты столкнешься и с совершенно противоположным явлением. Человек, которому есть что скрывать, вообще не может позволить себе удовольствие поговорить. Об этом твердо знали парни из разведки во время войны: если попадешь в плен, не говори ничего, кроме имени, звания и номера. Люди, которые пытаются давать ложную информацию, почти всегда допускают ошибки. Заставь их всех разговориться, Чарльз, а сам следи, не допустит ли кто-нибудь из них ошибки или не потянет ли кого-нибудь из них на саморазоблачение.
И тут я рассказал ему о том, как София говорила о жестокости в семье… разных формах жестокости. Он, казалось, заинтересовался этим.
— В этом что-то есть. В большинстве семей имеется какой-то изъян, своя ахиллесова пята. Чаще всего люди могут справиться с одной слабостью, но с двумя разными слабостями могут и не совладать. Любопытная штука — наследственность. Возьмем, к примеру, жестокость де Хэвилендов и, скажем, беспринципность Леонидисов… С де Хэвилендами все в порядке, потому что у них есть принципы, и с Леонидисами все в порядке, потому что им присуща доброта… Но если мы возьмем их потомка, который унаследует от них жестокость и беспринципность… понимаешь, что я имею в виду?
Я представлял себе это несколько по-иному.
— На твоем месте я не стал бы забивать себе голову мыслями о наследственности, — сказал отец. — Это слишком запутанный и сложный вопрос. Тебе, мой мальчик, лучше поехать туда и дать им возможность пооткровенничать с посторонним человеком. Твоя София совершенно права в одном: и ей, и тебе нужна только правда — только она поможет вам. Вы должны знать правду.
Когда я уже был на пороге, он добавил:
— И побереги ребенка.
— Джозефину? Ты имеешь в виду — не говорить ей о моих намерениях?
— Нет, я говорю о другом. Я имею в виду… присмотри за ней. Нельзя допустить, чтобы с ней что-нибудь случилось.
Я в изумлении уставился на него.
— Не будь наивным, Чарльз. В этом доме разгуливает на свободе хладнокровный убийца. А эта девочка, Джозефина, по-видимому, знает почти обо всем, что происходит в доме.
— Да уж. О Роджере, например, она, несомненно, знала все, хотя и пришла к ошибочному заключению, что он мошенник. Как оказалось, она весьма достоверно излагала то, что ей удалось подслушать.
— Да, Чарльз. Свидетельские показания ребенка обычно бывают самыми надежными. Я считаю, что на них всегда можно положиться. Но не в суде, конечно. Дети терпеть не могут отвечать на прямые вопросы. Легче всего от них получить информацию, когда они выхваляются. Именно это и проделывала перед тобой эта девочка. Выхвалялась. Тем же путем ты можешь получить от нее и дальнейшую информацию. Только не задавай ей вопросов. Сделай вид, что ничего не знаешь. Она попадется на этот крючок. Но побереги ее, — добавил он. — Вполне возможно, что она знает немножко больше, чем нужно для чьей-то безопасности.
Я отправился в «нелепый домишко» (как я его мысленно называл) с чувством некоторой вины. Хотя я передал Тавенеру информацию о Роджере, которую доверительно сообщила мне Джозефина, но ничего не сказал о том, что, по ее словам, Бренда и Лоренс писали друг другу любовные письма.
Чтобы оправдать себя в собственных глазах, я притворился, будто бы считаю эти сведения не заслуживающим доверия порождением разыгравшейся фантазии ребенка. На самом же деле, как ни странно, мне просто не хотелось увеличивать число фактов, говорящих против Бренды Леонидис, — их и без того было предостаточно. На меня произвел впечатление драматизм ее положения в доме — в окружении враждебно настроенных членов семьи, тесно сплотившихся в своей неприязни к ней. Если бы такие письма существовали, думалось мне, Тавенер и его бойкие помощники, несомненно, отыскали бы их. Мне претила мысль о том, что с моей помощью на голову женщины, попавшей в трудное положение, пали бы новые подозрения. Кроме того, она торжественно заверила меня, что между ней и Лоренсом ничего такого не было, и я в большей степени был склонен верить ей, чем этому ехидному гному — Джозефине. Разве сама Бренда не сказала, что у Джозефины с головой не все в порядке?
Я подавил в себе неуместное чувство уверенности в том, что у Джозефины с головой все в самом наилучшем порядке. Стоило лишь вспомнить ее умные глазенки, похожие на черные бусины.
Я позвонил Софии и попросил позволения приехать снова.
— Пожалуйста, приезжай, Чарльз!
— А как идут дела? — спросил я.
— Не знаю. Нормально. Они продолжают обыскивать дом. Что они ищут?
— Не имею ни малейшего понятия.
— Все вокруг стали такими нервными. Приезжай как можно скорее. Я просто с ума сойду, если не поговорю с кем-нибудь!
Я ответил, что приеду немедленно.
Когда я подъехал к парадному входу, поблизости никого не было видно. Я расплатился, и такси уехало. Дверь была открыта, и я не знал, как поступить: то ли нажать на кнопку звонка, то ли войти сразу.
Пока я стоял в нерешительности, позади послышался какой-то шорох. Я резко оглянулся. В просвете между тисовыми деревьями, образующими живую изгородь, стояла и смотрела на меня Джозефина, лицо которой было видно только наполовину из-за огромного яблока, которое она грызла с большим удовольствием.
Как только я повернул голову, она отвернулась.
— Привет, Джозефина.
Она не удостоила меня ответом и скрылась за изгородью. Я пересек дорожку и последовал за ней. Джозефина сидела на неуютной деревянной скамье около пруда с золотыми рыбками и, болтая ногами, ела свое яблоко. Видневшиеся над его розоватым круглым боком глаза смотрели на меня мрачно и — я не мог не почувствовать этого — враждебно.
— Вот я и пришел снова, Джозефина, — сказал я.
Такое начало разговора было, конечно, слабовато, но я почувствовал, что молчание Джозефины и ее немигающий взгляд действуют мне на нервы.
Она пустила в ход превосходный стратегический маневр: продолжала хранить молчание.
— Вкусное яблоко? — спросил я.
На сей раз Джозефина все-таки соблаговолила ответить. Ответ состоял из двух слов.
— Как вата.
— Жаль, — заметил я. — Мне тоже не нравятся такие яблоки.
Джозефина пренебрежительно бросила:
— Кому же они нравятся?
— Почему ты не ответила, когда я поздоровался с тобой?
— Не захотела.
— А почему?
Джозефина освободила рот от яблока, для того чтобы по возможности отчетливее прозвучало обвинение.
— Ты побежал доносить в полицию, — сказала она.
Я несколько растерялся.
— Ты имеешь в виду…
— О дяде Роджере.
— Но с этим все в порядке, Джозефина. Все в полном порядке. Они теперь знают, что он не сделал ничего плохого… я имею в виду, что он не присваивал деньги и тому подобное.
Джозефина бросила на меня уничтожающий взгляд.
— До чего же ты глупый!
— Извини.
— Я вовсе не беспокоюсь о дяде Роджере. Просто сыщики так не поступают. Разве ты не знаешь, что полиции никогда не говорят ничего до самого конца?
— Ах, так вот в чем дело… — произнес я. — Извини, Джозефина. Я действительно очень сожалею об этом.
— Конечно, ты и должен очень сожалеть, — сказала она с укоризной и добавила: — Я тебе доверяла!
Я извинился в третий раз. Джозефину это, по-видимому, ни капельки не тронуло. Она еще пару раз откусила от яблока.
— Но полиция все равно узнала бы обо всем этом, — сказал я, — тебе… нам с тобой не удалось бы сохранить это в тайне.
— Ты имеешь в виду, потому что он обанкротился?
Как обычно, Джозефина оказалась очень хорошо информированной.