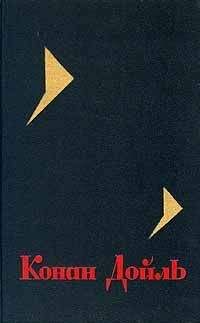денег!
Глеб промолчал.
– Ты просто-напросто еще не понимаешь, Глеб, как жизнь-то устроена! Вот тебя к ногтю прижмет однажды – у самого будет семья, дети! – вот тогда-то и узнаешь, как ремни затягиваются!
– А ты думаешь, – разозлился Глеб, – что других путей в жизни нет? Нет других путей, кроме твоих?!
– Правильно, я думаю – что нет! Иначе, будь они, существуй они – эти пути туманные, о которых ты в книжках вычитал своих заумных! – существуй пути эти, люди в соответствии с ними жили бы, а люди живут так, как все, и я сам – живу как они!
– Опять ты за свое! Когда ты с долгами расплатишься?!
– У тебя еще вся жизнь впереди, – не к месту сказал Акстафой, – вот и живи ее!
– Откуда ты взял эти слова, пап?! Какая жизнь – к чертовой бабушке!? Ты чепуху городишь – проснись уже, опомнись!
– Я не сплю.
– Ты спишь, всю жизнь спал!
– Глупости-то не повторяй, – крикнул Акстафой, – опять тебя придурочная мамаша твоя науськала, что ли!? Не слушай ее, у нее самой куриные мозги – а ты знаешь, что она аборт хотела сделать? И если бы не я – не жить тебе на свете белом! Ты мне благодарен быть должен, а вместо того повторяешь слова ее, которым она тебя по дурости своей научила, как бездумный автомат…
– Ты меня, как я вижу, за идиота держишь! – у Глеба в глазах потемнело от злости, рассудок помутился, он зашатался и стукнул кулаком в стену, – ты ж сам недоносок! Ты просто сучий потрох, ты самый настоящий психопат! Я помню… – Глеб истерически, жутко рассмеялся, – а я же помню, сучий ты сын – ты маму чуть ли не насиловал! В мокрую подстилку превратил ее для своих извращений и утех – ко всяким мерзопакостям ее принуждал, когда я маленьким был, а ты думал, что я сплю, думал, что я ничего не запомню – а вот я запомнил! Я все слышал ушами своими, на то они мне и даны, слышал, как она в соседней комнате плакала и кричала, от тебя отбивалась! А еще ты животное – ты грязное и тупое зверье! – и считаешь себя правым?! Да ведь от тебя воняло всегда как от животного, такой мокрой едкой вонью, как от загнивающей язвы, похотью воняло и психическим расстройством, вот и все, тварь!
Глеб прервался, захлебываясь:
– Не замечал ты, продушился вонью своей – а меня, сына твоего, тошнило, воротило от тебя! И как с тобой мама под одно одеяло только ложилась – ты и ее перепачкал, превратил в тряпку! Но теперь все, конец! Потому как ты мои слова запомни хорошенько – на носу заруби себе, гад паршивый! У меня свои глаза есть, не на затылке! – и всегда имелись, свое мнение, свои уши есть, я не запрограммированный робот, не автоматизированное чучело, меня науськивать нужды нет, и если я вижу, что передо мной человек недоделанный – чмо тупое! – то мне и объяснять дважды это не нужно, а ты просто ничтожество, я давно хотел тебе сказать, только страху во мне было! Но теперь я тебя из-под земли достану, за волосы вытащу, если опять к маме сунешься со своими извращениями, со своим нездоровым, поганым содомским сексом, сволочь паршивая, садистический дегенерат! – еще раз к нам сунешься или будешь звонить, я тебя отыщу живого и ножом зарежу до смерти, до кишок твоих! Голыми кулаками тебя измордую и радость твою ножницами откромсаю, свинья насильничья, мразь!..
– Ты не в себе, Глеб, позже поговорим! – Акстафой бросил трубку.
Глава 10. Дикие утки на спокойной реке
Крещеный расположился в соседнем от Ламасовского, но пустующем из-за перепланировки кабинете – где из мебели имелся старенький стол с телефоном и факсом, единственное кресло, шкаф и несколько стоящих друг на друге коробок; и Данила, раскручиваясь в кресле, барабанил пальцами по затвердевшим подлокотникам, дожидаясь, когда из главного информационного центра министерства внутренних дел – сокращенно, а главное, как звучно-то, ГИЦ МВД! – поступит факсовый ответ на срочное требование, подписанное и направленное им лейтенантом Ламасовым – предоставить сведения о наличии судимостей у лиц, проживавших до переезда в Москве и фигурирующих в списке Акстафоя, а именно по Мирзоеву, Эзре Романовичу и Селифанову, Жоржу Федоровичу. В остальных случаях проверка проводилась по районному архиву – а тут, как было известно, далеко ходить не надо.
Вот Луганшин, Илья Гекторович – первый из святой троицы ранее привлеченных к уголовной ответственности и бывших судимыми! – получил, четырнадцать лет назад, два года колонии по статье 115 – за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия; и именно Луганшин поначалу привлек внимание Крещеного тем, что в качестве потерпевшего был указан восьмидесятилетний пенсионер Астраханский, Станислав Анатольевич – сам Астраханский неоднократно обвинял Луганшина в том, что тот, якобы, выкрал у него из квартиры некие ценные фамильные вещи, хотя показания Астраханского не подтвердились. В пустом деле Нефтечалова, Назара Захаровича, которое Крещеный поверхностно изучил, значилось – что в двадцатилетнем возрасте Назар Захарович был поставлен на исправительные работы за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. По Тульчанову же, Аркадию Валентиновичу, Данила установил, что пятнадцать лет назад того оштрафовали на сумму в сто двадцать тысяч рублей за мошенничество – и это, пожалуй, Крещеный находил наиболее безобидным.
Он вновь пробежался глазами снизу вверх – от Нефтечалова до Кузьмича, – по списку имен, столь кропотливо и аккуратно-вычурно записанных, словно их написанием занималась не человеческая рука, но непоколебимая длань самого закона!
И Данила – которому просто-напросто уже осточертело тупо ждать! – потянулся к телефону и набрал номер Акстафоя.
– Глеб, послушай… – вскрикнул Акстафой, – алле?
– Это не Глеб, – отозвался Данила.
– Вы кто?
– Я – следователь Крещеный, по поручению лейтенанта Ламасова вам звоню, – ответил Данила, – мы виделись…
– Глаза б мои вас, – крикнул Акстафой, – что надо!?
– Вам неудобно разговаривать?
– Я не хочу с вами говорить! Мне вам сказать нечего!
– Это минуту займет, я уверяю.
– В таком случае – торопитесь, у вас минута!
– Вы с Мирзоевым, Эзрой Романовичем – знакомы?
Акстафой кашлянул в трубку:
– Да, – ответил сдавленно.
– Вы и у Мирзоева деньги занимали?
– Да! – откашлявшись, крикнул Акстафой, – занимал я у Мирзоева, он мне своей рукой из своего кошелька отсчитал, по своей воле, а что – это преступление!? Или он на меня заявил?
– Нет, не заявил, – ответил Данила, – с Антоном Натановичем Овечниковым – знакомы?
– Знаком – и это, наверное, преступление!
– И у него занимали, правильно?
– Не помню, может