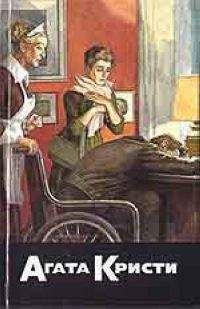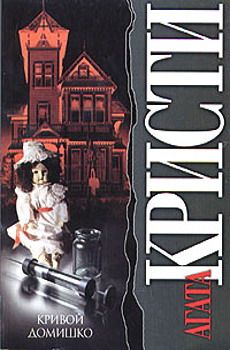Где-то в глубине души у меня шевельнулась жалость.
— Бедняги, — сказал я.
— Да уж… бедняги. Надеюсь, у нее хватит здравого смысла позаботиться о себе. Я имею в виду — нанять хороших адвокатов… и все такое прочее.
Меня, признаться, удивило, что, несмотря на их общую неприязнь к Бренде, все они были озабочены тем, чтобы она воспользовалась самыми лучшими средствами защиты.
Эдит де Хэвиленд продолжала:
— Как долго все это продлится? Сколько времени потребуется на все процедуры?
Я ответил, что точно не знаю. Им будет предъявлено обвинение в полицейском суде, а потом, по всей видимости, состоится судебный процесс. Насколько мне известно, на это может потребоваться от трех до четырех месяцев, а если их признают виновными, будет подана апелляция.
— Вы предполагаете, что их признают виновными? — спросила она.
— Трудно сказать. Мне не известно точно, какими доказательствами располагает полиция. Знаю только, что есть письма.
— Любовные письма? Так все-таки они были любовниками?
— Они были влюблены друг в друга.
Лицо ее помрачнело.
— Мне все это не нравится, Чарльз. Я не люблю Бренду. Раньше моя неприязнь к ней была еще сильнее. Я не раз высказывала язвительные замечания о ней. Но сейчас… хотела бы, чтобы у нее были все средства защиты… все, что только возможно. Аристид пожелал бы того же. Мне кажется, что я обязана позаботиться о том, чтобы у Бренды ни в чем не было недостатка.
— А Лоренс?
— О, Лоренс! — Она нетерпеливо передернула плечами. — Мужчины должны сами заботиться о себе. Но Аристид никогда не простил бы мне, если бы… — Она не закончила фразу. — Кажется, уже время обедать. Пойдемте-ка лучше в дом.
Я объяснил ей, что собираюсь в Лондон.
— На машине?
— Да.
— Гм-м. А не возьмете ли меня с собой? Насколько я понимаю, теперь нас больше не будут держать на привязи.
— Возьму с удовольствием, но, кажется, Магда с Софией собирались поехать в Лондон после обеда. Вам было бы удобнее ехать с ними, чем в моей двухместной машине.
— Не хочу ехать вместе с ними. Возьмите меня с собой и не очень-то болтайте об этом.
Я был удивлен, но сделал так, как она сказала. По дороге в Лондон мы почти не разговаривали. Я спросил, где мне ее высадить.
— Харли-стрит[2].
У меня появилось какое-то дурное предчувствие, но я предпочел промолчать. А она продолжала:
— Нет, еще слишком рано. Высадите меня около «Дебнемза». Я могу там чем-нибудь перекусить, а потом пройдусь пешком до Харли-стрит.
— Надеюсь… — начал я, но она не дала мне договорить.
— Именно поэтому мне и не хотелось ехать с Магдой. Она склонна все драматизировать. Вечно устраивает суматоху по пустякам.
— Глубоко сочувствую вам, — сказал я.
— Не надо. Мне не на что жаловаться, я прожила хорошую жизнь. — Она неожиданно улыбнулась. — К тому же она еще не кончилась.
Я не виделся с отцом несколько дней. Я застал его по уши в делах, не имеющих никакого отношения к Леонидисам, и пошел на поиски Тавенера.
Тавенер наслаждался короткой передышкой, которые не так-то часто выпадали на его долю, и с готовностью согласился пройтись со мной и где-нибудь выпить по стаканчику. Я поздравил его с успешным завершением следствия, и он принял поздравления, хотя как-то не чувствовалось, что он торжествует победу.
— Ну вот, — сказал он, — все и завершилось. Никто не может отрицать, что мы хорошо потрудились и собрали достаточно материала для передачи дела в суд.
— Вы думаете, что их признают виновными?
— Трудно сказать. Доказательства косвенные… это почти всегда так бывает в делах об убийстве… иначе и быть не может. Многое зависит от того, какое впечатление на присяжных заседателей произведет эта пара.
— В какой степени их изобличают письма?
— На первый взгляд, Чарльз, письма им обеспечивали приговор. Там были и упоминание об их совместной жизни после смерти ее супруга, и такие фразы, как «теперь уже недолго осталось ждать». Не сомневаюсь, что защита попытается повернуть все это по-другому… супруг, мол, был так стар, что, конечно, имелись все основания ожидать, что жить ему осталось недолго. Об отравлении там нет никаких конкретных упоминаний — так сказать, черным по белому это не написано, — однако некоторые строки можно истолковать именно так. Все зависит от судьи. Если это будет старый Карбери, он сотрет их в порошок: незаконная любовь всегда вызывает у него благородный гнев. Полагаю, что адвокатом будет Иглс, а может быть, Хэмфри Керр… Хэмфри просто великолепен в подобных делах… но предпочитает, чтобы любовник храбро сражался на войне или что-нибудь в этом роде — любит строить свою защиту, опираясь на такие факты. А человек, который отказывается от воинской повинности по морально-этических соображениям, не укладывается в его схему защиты. Весь вопрос будет в том, как отнесутся к ним заседатели, а с ними никогда и ничего нельзя сказать заранее. Ты ведь знаешь, Чарльз, что эта парочка не вызывает особой симпатии. Она — всего-навсего красивая женщина, которая вышла замуж за старика, польстившись на его деньги, а Браун — слабонервный тип, уклоняющийся от военной службы, потому что, видите ли, это идет вразрез с его совестью. Преступление настолько укладывается в привычную схему, настолько заурядное, что и в самом деле начинаешь верить, что они его не совершали. Конечно, они могли договориться между собой, что будто бы все сделал он, а она тут ни при чем… или, наоборот, что будто бы все сделала она, а он ничего не знал об этом… или же они могли договориться и утверждать, что совершили преступление вместе.
— А что вы сами думаете по этому поводу? — спросил я.
Он взглянул на меня, но на его непроницаемом лице ничего невозможно было прочесть.
— Я не думаю ничего. Лишь собрал факты и передал их в канцелярию прокурора, а там решили, что фактов собрано достаточно, чтобы предъявить обвинение. Вот и все. Я выполнил свой долг и вышел из игры. Ну, теперь вам все ясно, Чарльз.
Но мне далеко не все было ясно. Я понимал лишь, что Тавенер по какой-то причине не удовлетворен результатами.
Мне удалось поговорить с отцом только три дня спустя. Сам он ни словом не напоминал об этом деле. В отношениях между нами возникла какая-то непонятная напряженность… и мне думалось, что я догадывался о ее причине. Мне нужно было во что бы то ни стало сломать этот барьер, возникший между нами.
— Нам надо бы разобраться в этом, — сказал я. — Тавенер не удовлетворен результатами — он не верит в виновность этой парочки… ты, мне кажется, тоже не удовлетворен.
Отец покачал головой. Он повторил сказанное Тавенером:
— Мы уже вышли из игры. Собрано достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение. В этом нет ни малейшего сомнения.
— Но ведь ни ты, ни Тавенер не считаете, что они виновны?
— Это решит суд присяжных.
— Ради бога, — взмолился я, — не затыкай мне рот процедурными терминами. Что обо всем этом думаешь ты… оба вы… лично?
— Мое личное мнение стоит ничуть не больше, чем твое, Чарльз.
— Ты ошибаешься, у тебя значительно больше опыта.
— В таком случае буду с тобой говорить начистоту. Я просто… не знаю.
— Возможно, что они виновны?
— О да.
— Но ты не уверен в том, что они виновны?
Отец пожал плечами.
— Разве можно что-нибудь сказать с уверенностью?
— Не увиливай от прямого ответа, отец. Ведь во многих других случаях ты бывал уверен? На все сто процентов? И у тебя не было ни тени сомнения?
— Иногда, но не всегда.
— Как бы я хотел, чтобы у тебя в данном случае была полная уверенность!
— Я тоже хотел бы этого.
Мы замолчали. Мне вспомнились две фигуры, проскользнувшие в сумерках из сада, — одинокие, загнанные и охваченные страхом. Они с самого начала боялись. Разве это не говорит о том, что у них была не чиста совесть?
Но тут же я ответил самому себе: совсем не обязательно. И Бренда, и Лоренс боялись жизни… они не были уверены в себе, в своей способности избежать опасности и поражения и не могли не понимать, что обычная схема незаконной любви с убийством в качестве развязки может заставить их в любой момент последовать ей.
Отец заговорил печально и ласково:
— Послушай, Чарльз, давай смотреть правде в глаза. Ведь ты продолжаешь считать, что настоящим преступником является кто-то из членов семьи Леонидисов?
— Не совсем так. Мне лишь кажется странным…
— Ты действительно так думаешь. Может оказаться, что ты не прав, но ты так думаешь.
— Да, — признался я.
— А почему?
— Потому что, — я задумался, пытаясь яснее сформулировать свою мысль, — потому что (ага! пожалуй, так будет правильнее), — потому что они так думают сами.
— Они так думают сами? Это любопытно. Это весьма любопытно. Ты что имеешь в виду: что они подозревают друг друга или что они действительно знают, кто именно это сделал?