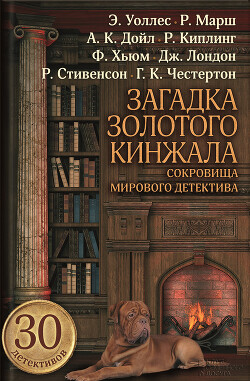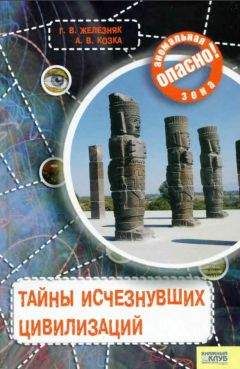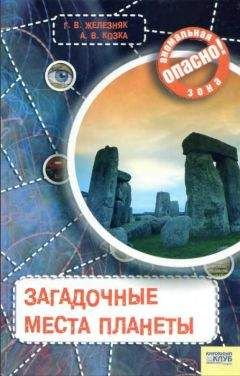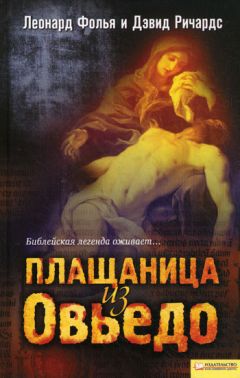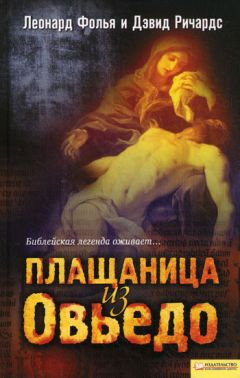– А? Да, конечно, если вам так хочется… Так вот, – продолжила она с той спокойной уверенностью, которой я с тех пор настолько не доверяю, – если бы я была ответственна за операцию, я бы так и делала – давала балы, обменивалась визитками, устраивала бы молебны. Ведь здесь полно шпионов. Даже слуги – они легко могут читать всю корреспонденцию и доносить ее содержание Как-его-там-хану. И в итоге план кампании будет известен ему не хуже, чем самому бригадиру.
– Уверен, это не так, – возразил я. – Грэм держит все письма в аптечке, запертой в дорожном чемодане, крышка которого наглухо завинчена.
– Вот как? Что ж, лучше, как это говорят у нас в Америке, перебдеть, да? Ну так вот, как я говорила, будь я начальником операции, я бы так и делала – убедила Как-его-там-хана, что это все только демонстрация силового превосходства, а потом – один ночной марш, и еще до рассвета устроить ему янки-дудль [24] во все поля.
Она посмотрела на меня, уверенно кивнула и, достав веер, начала им обмахиваться.
– Вот так я повела бы кампанию. Знаете, папенька приехал сюда посмотреть, как сражаются британские солдаты. Мы ждем уже месяц – и, надеюсь, в театре войны скоро третий звонок. Он много думал о британских солдатах, да… Он ведь, хоть и генерал, настоящей войны не видел никогда. А я говорю: если ты генерал, который не бывал в бою, то грош тебе цена, иди и сдохни! Что?
– Ничего.
– Вы что-то сказали.
– Я только хотел сказать, что доведись вам проводить военную кампанию – вы, безусловно, поступите именно таким образом, как только что описали.
– Так просто я не сдамся, – возразила она серьезно… и мы сменили тему.
Насколько помню, мы заговорили о врачебном ремесле, и вскоре я уже вовсю рассказывал о своем увлечении того времени – природных наркотических препаратах. Она была весьма заинтересована – или старалась казаться таковой, и я пообещал прислать им в «эспедицию», как она это называла, бутылочку отличного совершенно безвредного средства, которое помогает от морской болезни и зубной боли. Я до сих пор держу при себе некоторое количество этого средства, под этикеткой «Берта» – все же, полагаю, в этом имени что-то есть…
* * *
Домой я возвращался в глубоких раздумьях. То, что изложила мне Берта Уотсон, было планом Остина Грэма. Но ведь не такой человек был мой друг, чтобы выбалтывать подобные секреты!
Теперь я знаю: если женщина любит, ей не нужны слова, чтобы знать, что на уме у мужчины. Но тогда… тогда я не знал ни этого, ни многих других важнейших вещей.
Дни тянулись, а мы все никак не приближались к цели: решению проблемы раджи. Газет в то время в колониях не было. Их, впрочем, с успехом заменяли базарные сплетни, подчас передававшие новости точнее и быстрее самой осведомленной прессы. На базарах приходили к тому же выводу, что и Берта Уотсон: что мы здесь лишь для показухи.
Чем дальше, тем более уверенными становились эти толки, и потихоньку они, как сорняками, обрастали интересными подробностями: то ли мы боялись претендента, то ли поссорились с раджой…
Грэм приходил и уходил. Порой в расположении его ждали странные туземцы, один из которых говорил на хиндустани с шотландским акцентом. Когда я сообщил ему это, он рассмеялся:
– Зато на своем родном языке я говорю без индийского акцента!
Английский у него действительно был как у уроженца Глазго. Я дал ему прикурить, и мы проболтали о том о сем полчаса, ожидая Грэма. Но мой случайный знакомец так и не представился.
Наконец однажды около полуночи меня разбудил майор Лемезюрье-Грослен в полном обмундировании – и в глазах его горел тот странный огонь, который мне был не знаком дотоле, но – весть Бог и конная гвардия! – я частенько с тех пор встречал.
– Поднимайся, ты, костоправ! – крикнул майор. – Ты всяко будешь нужен, но сейчас ты нам просто необходим. С Грэмом что-то не так – и это как раз тогда, когда мы собрались покончить-таки с этим ханом! Да поторопись же, черт дери! Будет славная драчка, я такую не пропущу ни за какие блага!
У Лемезюрье-Грослена было восемь тысяч в год, поместье в тюдоровском стиле и титул баронета впереди – но ничто из этого не заставляло его глаза так гореть.
– Что с Грэмом? – спросил я, одеваясь.
– Если б я знал! Не можем его добудиться. То ли паралич хватил, то ли он пьян мертвецки. – Майор подал мне пояс.
Мы поднялись в комнату Остина Грэма. Он лежал на своей постели, глаза его были прикрыты.
Я осторожно приподнял одно из отяжелевших век пальцем.
– Где он ужинал? С вами, в общей столовой?
– Нет, с Уотсонами.
– Когда вы виделись последний раз?
– У меня, в десять. Он поменял время выступления на без четверти полночь – войска уже пошли. Я вернулся его поторопить, и вот… Весь план атаки – его рук дело, это был бы его звездный час, он должен был сам командовать штурмом… Эх! Какие шансы у него были, а он, черт его дери, лежит тут бревном!..
По ходу осмотра сердце мое билось все тревожнее – странная мысль пришла мне на ум. Я спустился к себе, открыл «Берту». Тот же запах!
Вернувшись, я сказал:
– Помогите обуть его и одеть.
При неровном свете свечи мы кое-как одели Грэма. Лемезюрье-Грослен был крупный малый, а меня мое ремесло приучило ворочать трупы, потому скоро наш друг был в полном обмундировании у меня на руках. Квалерийская каска чудом держалась у него на голове под каким-то немыслимым углом, сам он был совершенно без сознания, но живой.
– Теперь помогите усадить его в седло.
То был первый и последний на моей памяти раз, когда майор уронил монокль.
– Не смею ослушаться. Но учтите: я полагаю, что вы или пьяны, или рехнулись.
Мы спустились вниз, я влез на лошадь, Лемезюрье-Грослен передал мне Грэма (весу в нем было не меньше четырнадцати стоунов [25]), которого я пристроил перед собой, и мы отмахали двадцать миль в одном седле.
Через час, уже в виду крепости хана, Грэм пришел в себя – как я и полагал, свежим и готовым к делу, словно после хорошего сна. Времени объясняться толком не было, так что я сказал:
– Вас опоил кто-то из туземных шпионов. Как видно, прознали, что атакуем сегодня. Мне сказали, что войска уже выдвинулись на маршрут, так что я не стал давать вам лекарства, а просто подвез к месту действия.
Рад заметить, что он мне поверил.
* * *
Мне нашли бодрую лошадку, до того тягавшую легкую артиллерию и доставившую солдатам немало проблем своим характером, и я направился на квартиры: мне нечего было делать на поле боя. Когда я уже подъезжал к сторожке, мне помстилось, что мимо мелькнуло белое платье.
Был почти рассвет, и над рисовыми полями повисла легкая розовая дымка. Все было полно того ощущения чистоты и покоя, какое всегда оставляет, уходя, индийская ночь.
Моя комната была на первом этаже и, кажется, услышав стук копыт, кто-то выскользнул из нее и побежал по каменным ступеням вверх.
Я спрыгнул наземь, вдалеке бухнула пушка. Моя лошадка бодро вздернула уши – несмотря на сорок миль, которые она прошла без отдыху за последние пять часов.
Я ее стреножил и пошел в комнату – но не в свою, а наверх, к Грэму.
Мисс Уотсон стояла там и, в ярком свете южного утра я увидел лицо женщины, пережившей бессонную ночь.
– Слуга майора Грэма сказал мне, что майору плохо, и я пришла. У меня есть право… право знать, что с ним и где он! – сказала она с привычным самообладанием.
– Он на поле боя, – ответил я, и глухой отдаленный выстрел подтвердил мои слова.
Берта Уотсон прикусила губу – та слишком дрожала.
– Прозвенел третий звонок, – пояснил я, припомнив давний разговор на веранде посольства.
– Как он туда попал?
– В моем седле, без сознания. Пришел в себя примерно за час до начала запланированных боевых действий. Кто-то опоил его, чтобы майор не мог принять участия в операции. Кто-то, кто боялся его – или боялся за него. Меня вызывал майор Лемезюрье-Грослен, и о случившемся знаем только мы трое. Я – единственный медик, связанный с этим делом, и я могу удостоверить, что использовано было местное наркотическое средство, а следовательно, преступник – туземец. Вероятно, местный шпион, пытавшийся таким образом сорвать операцию, предупредить о которой своих он не успевал. Понимаете?