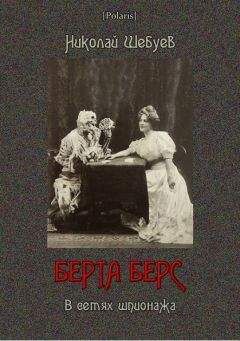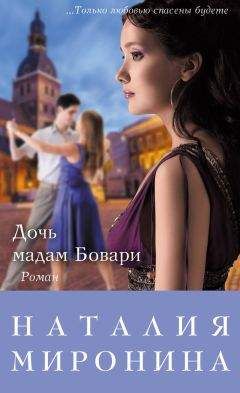Большинство авторитетов говорит, что невозможно.
Не может, кажется, гипнотизер и обыкновенный сон перевести в гипнотический.
Берта облегченно вздохнула:
— Ну, а если это так, мы еще поборемся!
Она вспомнила, как Фридрих, потирая от удовольствия руки, говорил ей с месяц тому назад:
— Молодец Таубе! Чистота работы!.. Только бы какая-нибудь баба не забрала его в руки!
Берта изумилась:
— Что может сделать женщина с таким сильным волей мужчиной?
— Все. Влюбится Самсон, и потеряет силу. Из двух видов порабощения чужой воли — любовь и гипнотизм — я думаю, что первый могучее… Чары любви и чары гипноза так похожи друг на друга. И тот же Таубе, влюбившись в какую-нибудь краснощекую Акулину, может стать рабом ее хотений и изменить нашему делу и выдать всех нас…
Еще Фридрих говорил как-то:
— Сильные мужчины — сильнее влюбляются, а слабые — сильнее противостоят женским чарам.
Берта хотела позвонить Людмиле, чтобы та приехала.
Лакей таинственно сказал:
— Телефон занят! Не пожелаете ли, фрейлейн Берта, подождать вот здесь, во внушительном кабинетике…
Он указал на раскрытую дверь небольшого изолированного кабинетика, служившего для внушения особо важным особам.
Она вошла в него и в раздумье села в глубокое удобное мягкое кресло, стоявшее посредине комнаты.
Вся комната, потолок и стены обиты темно-зеленым плюшем.
Нога тонула в темно-зеленом плюшевом ковре. Едва Берта вошла, как дверь, тоже обитая темно-зеленым плюшем, беззвучно захлопнулась за ней, причем так плотно, что нельзя было на глаз различить линию косяка, словно никакой двери и никакого отверстия в этой плюшевой коробочке никогда и не было.
Свет падал только из лампиончика на потолке и освещал единственную мебель этого кабинетика, шезлонг, на который присела Берта.
Когда пациент ложился на это кресло, удобно закинув голову назад, свет лампиона озарял его лицо. Таубе нажимом на неприметную кнопку в стене превращал этот лампион в одну светящуюся точку, на которой и фиксировал свое внимание пациент.
Шаги, стуки, движенья, слова, — все звуки глохли в гуще плюща. Взгляд тоже тонул в темнозелени и поневоле тянулся к светлой точке.
Берте стало жутко. Она вскочила с кресла и пошла к двери. Но где дверь? Она обошла вдоль всех четырех стен, шаря рукой, не было и намека на дверь.
Она крикнула:
— Петр, отоприте!
Ей самой едва слышным казался ее голос.
Она пробовала подходить вплотную к каждой из четырех стен и кричать:
— Петр! Петр! Откройте!
Лакей, только что впустивший ее в эту плюшевую клетку, не отвечал.
Берта поняла, что попалась в ловушку. Пробовала колотить кулаками в стены.
Никакого эффекта.
Злоба душила ее.
— Этот негодяй испугался, что я сегодня ускользну из его рук и решил овладеть мною силой!.. Крепись, Берта! Ты привыкла бывать в опаснейших положениях. Но в подобном еще не бывала!
Действительно, положение ее было запутано до крайности.
Арест Фридриха приковал ее к Петрограду: она дала клятву освободить его, да и могла ли она покинуть человека, которого любила, единственного в целом мире.
Ее популярная внешность и тщательные розыски ее особы после исчезновения из цирка не позволяли ей показывать носа на улицу.
Но и оставаться в ее безопасном убежище больше немыслимо, потому что опасность грозит из каждого угла.
В каждом углу ей чудились устремленные на нее гипнотизирующие глаза Таубе. Да, так и было.
В нескольких местах стены незаметно плюш раздвигался, и Таубе, стараясь не быть замеченным, из темноты вперял в жертву ястребиный взгляд.
Убедившись, что это так, Берта напрягла всю силу воли, уселась в кресло и захохотала.
— Ха-ха-ха… Этот негодяй думает меня усыпить!.. Как нарвется он! И почище его гипнотизеры пробовали, да не смогли!.. Je suis refractaire, mon ange!..[8] Ха-ха-ха… Он думает взять меня силой!.. Во-первых, я не верю, чтобы какую-либо женщину, а в особенности девушку, можно было бы живьем взять силой… А во вторых, он не знает, pauvre diable[9], что за брелок всегда висит на моей браслетке… Стоит только повернуть вот так крышечку этого шарообразного золотого флакончика, подаренного мне дедушкой, и готова бомбочка, которая без остатка разнесет не только этот дом, а и весь этот квартал домов…
Когда Берта играла, она всегда почему-то французила и последнюю тираду своей речи бросила своему невидимому, но осязаемому врагу в лицо на чистом парижском жаргоне:
— И, наконец, еще мы посмотрим, sale type[10], кто кого осилит… Ты в меня влюблен, ты голову потерял, потому что хочешь меня!.. А гипнотизер только до тех пор гипнотизер, пока он не потерял головы, не потерял равновесия духа, не потерял силы воли… A la guerre comme a la guerre!..[11] Повоюем!..
IX. КОШМАР СЕМЕНА ЛАРИОНОВА
Семен Ларионов спал и во сне видел переживания той ужасной роковой ночи, когда он попал из могилы в лазарет.
Случай этот обежал потом газеты, и только из них узнал Ларионов, на какую подлую штуку пошли немцы.
Сам Ларионов был уверен до конца, что в дело впуталась чертовщина.
Разведочный отряд донес, что на закате в полутора верстах от рощицы, где наши мечтали на покое провести первую за две беспокойных недели ночь, блеснули каски немцев.
Значит, залегли — или нас поджидают, или сами ночью на нас обрушатся.
Решено их незаметно упредить, — как стемнеет окончательно — врассыпную, ползком, ползком, а потом сразу в штыки.
Штык для немца, как ладан для черта.
Ползет Ларионов и думает, только бы не зашуметь. Вдруг — затарахтел по-ихнему пулемет.
— Заметили, проклятые.
Ну, да уже близко.
Слышишь.
— Уррра-а-а!
Эге, — на ура взять приказано!
Это Ларионову сподручней, чем на брюхе ползть. Вскочил, расправился.
— Уррра!
Давно уже Ларионов о штыковой работе мечтал.
……………
Знает Ларионов, что не он, так другие Ларионовы добегут и выбьют штыками проклятого.
— Уррра а-а!
Все здоровее, все надрывнее гром богатырской отваги, все ближе к врагу, а близость врага так пьянит.
Как вдруг, что случилось?
Оборвалось ура, и…
……………
Бежал вперед, не слушая и не слыша, и Ларионов. Штык наготове.
Вот сейчас подденет немца.
Вот…
Ах, — что такое!..
Штык, как в привидение, вошел в немца… прошел насквозь и… вышел…
А немец, как из песка сделанный, без следа рассыпался…
А за ним… батюшки, ужас какой!.. да ведь это не немцы, а мертвые!
Встали из могил в белых саванах и скелетятся…
На безглазых черепах немецкие каски нахлобучены… На одних костях и мясо и одежда вся истлела.
……………
и ноздрей сукровица…
И не один, не два, не три, целая рать мертвецов на наших поднялась.
……………
Ларионов не помнит, как попал в объятия трупа, как упал в окоп-могилу, когда ему пулемет полоснул кровавыми полосами голени…
Очнулся он на приемном пункте…
И все вздрагивал, когда вспоминал последний зрительный аккорд — мертвецов в касках…
…Не понимал он тогда, что это проклятые немцы разрыли еврейское кладбище, привязали к жердям скелеты, надели на черепа каски, чтобы издали наши подумали, что на окопы немецкие натолкнулись…
Спит Ларионов и во сне вздрагивает от омерзения, видя себя в объятиях червоточивого трупа на дне сырой и смрадной могилы…
Я ли в поле да не травушка была,
Я ли в поле не зеленая росла…
Взяли меня травушку скосили.
Пело низкое грудное контральтовое сопрано Веры Александровны Завьяловой.
И весь лазарет тянулся навстречу скорбной песне и родным картинам, воскрешенным ее словами.
Вера пела с увлечением, и слезы задрожали в голосе.
Знать, такая моя долюшка…
Вера видела, какое наслаждение, какую радость внесла она в эти холодные и казенные стены.
Серые халаты и серые одеяла и эти свертки марли — магниты, приковывающие всеобщее внимание и всеобщее милосердие — все это куда-то отодвинулось назад.
А на первый план царственно вышла гармония Чайковского…
…Вечереющий день, залитые багрянцем заката хаты, завалинка, калинка, калитка.
— Ну и здорово вы сегодня поете! — пробормотал восхищенно Кукарников. — Мне даже стыдно, что я вам мешаю своим паршивым аккомпанементом…
— Напротив, Кукарников, вы сегодня тоже в ударе. Берите Рахманинова.
И еще более трогательнее образ, напомните казенное здание[12]:
Полюбила я
На печаль свою
Сиротинушку
Бесталанного
Увели его
Сдали в рекруты
И солдатка я
Одинокая,
Знать в чужой избе
И состареюсь…
……………