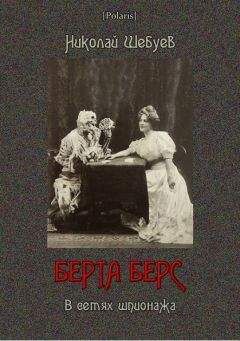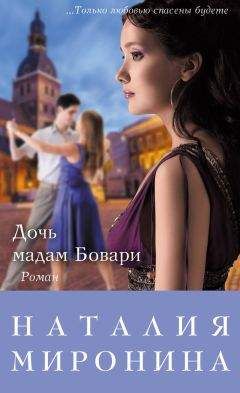Адский план созрел в ее голове.
Берта не ошиблась: зачем же еще мог прийти к Таубе Переверзев, как не за тем, чтобы гипнотизер залечил его сердечную рану?..
С тех пор, как исчезла Берта, он потерял сон, аппетит, работоспособность, покой.
У него на руках такое важное, ответственное дело, он должен его кончить в семидневный срок и не может работать.
Берта в том виде, в котором она приходила к нему в последний раз, стояла перед его глазами и манила задорным и вызывающим видом своим.
Истощенный организм инженера представлял собой чрезвычайно благодарную почву для гипнотических экпе-риментов; с завтрашнего же дня начнется правильный курс лечения.
Завтра Переверзев должен быть у Таубе в половине двенадцатого ночи.
Вот он сидит на мягком кожаном кресле посреди комнаты, погруженной в темно-зеленый мрак. Только на потолке маячит фиолетовая светлая точка.
— Спите! — отчетливо слышится голос гипнотизера. — Вот у вас тяжелеют веки. Делаются неподвижными члены… Закрываются глаза…
Переверзев заснул, еще глубже уйдя в мягкое кожаное глубокое кресло.
— Проснитесь! Но встать с кресла вы не можете до тех пор, пока я не позволю.
Инженер раскрыл глаза и с любопытством уставился взором в темноту.
Гипнотизера в комнате не было. Но в одном месте на стене показалось какое-то светлое облако.
— Шшшшшжжжбумм!.. Ку-ку! Ку-ку!..
Это пробили где-то половину двенадцатого старинные часы с кукушкой.
Сразу как-то спокойно, солидно, старинно на душе сделалось. Раздался серебряный звон старинной табакерки с музыкой.
Табакерка играла медленный вальс a trois temps[7] Ланнера.
И в такт музыке закачалось сиреневое облачко на стене. И чем больше качалось, тем больше принимало формы девушки.
И вот сердце Переверзева радостно забилось, что-то похожее на Берту почудилось ему в дымке сиреневого тюля.
— Да, да! Это она!..
Он хотел броситься к ней, протянул руки, но не мог встать с кресла.
Вдруг в комнате стало ослепительно светло. Перед ним стояла ослепительная в своей красоте Берта, как раз в том сиреневом платье с зеленым тюлевым шарфом, в котором он ее видел в последний раз.
— Берта! — радостно крикнул он.
— Илья, вы меня звали?.. Вы хотели меня видеть!
— Берта! Я умираю от тоски по тебе!..
— Вот я с вами… Я с тобой… Ты счастлив?..
— Берта! Подойди ко мне… Дай мне руку, чтобы я убедился, что это ты…
— Вот тебе моя рука! И вот колечко, подаренное тобою…
— Отчего так холодны твои руки?.. Нагнись надо мной, чтобы я мог дышать ароматом твоих волос…
Она обвила его шею руками и ласково прижалась нежным обескорсеченным телом к его груди, к его щеке и пьяным хмелем откровенного декольте одурманила.
— Куда ты исчезала? Зачем покинула меня, едва обнадежив?
— Я уезжала в несчастную, разоренную Польшу. Я была в Радоме на балу принца. Я танцевала полонез с королем саксонским и мазурку с принцем Иоахимом. Графиня Потоцкая, княгиня Радзивилл и прочие знатные дамы отвешивали мне почтительные поклоны, видя, как принц восхищен моей красотой. И вот все же я покинула их и вернулась к тебе, мой милый, дорогой Илья. Ну, целуй, целуй мою шею, мои плечи, мои губы…
Он впился губами в ее губы, и новый хмель новым прибоем по-новому охмелил его.
Вдруг она оторвала губы от губ, выскользнула из объятий, шепнула:
«До завтра, милый!..»
Сразу в прежнюю мглу погрузилась комната.
— Встаньте! — раздался голос гипнотизера. — Вернитесь домой, чувствуйте себя бодрым, прилежно работайте над вашим проектом сегодня ночью и завтра днем. Завтра в десять явитесь ко мне и продиктуйте все, сделанное вами.
— Шшшшжжжбум. Ку-ку!.. бум-ку-ку… бум-ку-ку…
Часы пробили двенадцать.
— Неужели только полчаса я провел в этом кабинете! Мне кажется, — целую жизнь, полную радостных видений.
Переверзев ушел от Таубе другим человеком.
IV. ПЕРВОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
— Берта, вы — гениальная актриса! — восхищенно воскликнул Таубе.
— Поневоле станешь гениальной, когда ту же роль с разными партнерами приходилось повторять по несколько раз в день. Но и вы гениальны. Теперь этот дурак продиктует нам свой проект и смету раньше, чем доложит их на заседании. Ну, а этот секретарь Кукушкин все продолжает?..
— Как же он может не продолжать, раз я ему внушил, чтобы после каждого заседания комиссии он приходил и подробно рассказывал ход дела и дебаты по нему…
— Все эти данные я соберу и повезу лично.
Но тут же сознание ее засосала тоска.
— Смогу ли я уехать от Фридриха!..
Все помыслы должны быть направлены на спасение его. Убийственно, что ни она, ни Фридрих не знают, какие улики имеет русское правительство. Быть может, никаких улик, обличающих Фридриха, и нет.
Кто может хлопотать об освобождении Гроссмихеля?
Конечно, его жена. На нее-то и надо натравить Людмил-ку. Эта пройдоха уже добилась того, что во всех газетах напечатано о появлении Берты на варшавском горизонте.
Она сидела, задумавшись, в том же кресле, в котором только что изнывал распаленный страстью Переверзев, и машинально устремила глаза в одну точку.
Вдруг она почувствовала на себе пристальный, властный взгляд Таубе. Вздрогнула.
— Уж не хочет ли он и меня усыпить!
Решительно встала и, не прощаясь, ушла в свою комнату. Заперлась. Разделась. Легла спать, но не спалось. Какая-то тревога закралась в душу: надо бежать от Таубе. Он слишком засматривается на нее.
Назавтра к приходу Переверзева была приготовлена стенографистка. Усыпленный инженер, сидя в кресле, ясно выговаривая слова, диктовал наизусть то, что успел написать до сих пор.
Поразительна сила гипнотизма: ведь в бодрственном состоянии Илья Петрович, хоть убейте, не смог бы так гладко припомнить наизусть фразу за фразой весь свой сложный, с массой чертежей и планов доклад.
— Завтра в семь вы принесете сюда портфель, в котором будут чертежи и планы, и продиктуете то, что успеете сработать сегодня и завтра до семи. А сейчас проснитесь. Но не смеете встать с кресла, пока я не позволю.
Илья Петрович раскрыл глаза и увидел Берту. Сегодня сна появилась без музыки, без танцев. Она просто подошла к инженеру, села на ручку кресла, положила руки на плечи и просто, участливо спросила:
— Ну, что, дружок, тебе лучше?
Он ловил ее руки, покрывая поцелуями, по-детски доверчиво глядел ей в глаза и все повторял:
— Берта! Берта!.. Где ты была эти часы, когда мы не виделись?..
— Илья! Я летела в поезде-экспресс к Берлину… Я спешила увидать своего кайзера… Но в назначенный час я опять с тобой…
Она обняла его голову, а он рыдал от избытка счастья на ее груди:
— Я знаю, что ты — мечта, бред, галлюцинация, но… как поразительно реальна она…
— Илья, какой ты смешной, какой ты глупый… Дай руку, я ее укушу… Тебе больно, больно?.. Ну, может ли галлюцинация кусаться… Смотри, остались следы моих зубов. И они не исчезнут в течение нескольких дней…
— Но как же ты можешь в одно и то же время быть и в Радоме и здесь…
— Ах, милый, для любви все возможно.
— Так любишь? Любишь? — и бородатый ребенок со слезами счастья ластился к ней: — Ах, не все ли равно, мечта или явь!
Эти два дня он все время не узнавал себя — словно помолодел, а молодость верит сказке.
И опять в самый разгар ищущей своего разряжения страсти она ускользнула…
Ку-ку!.. Ку-ку!..
И он остался один во мраке,
— Встаньте!
Они вышли с Таубе в салон.
— Что это у вас с рукой?
Переверзев вспыхнул.
— Так… ничего… Должно быть, я в трансе себя укусил…
На руке алел укус Берты, — два ряда четких ровных зубов.
— Это невозможно. В моей практике не было ни одного случая, чтобы загипнотизированный мною субъект причинил своему телу какой-нибудь вред.
Через неделю весь секретный доклад был переписан, все планы сняты и… Переверзев никому больше не нужен.
Таубе внушил ему, чтобы он забыл о Берте, о сеансах, о нем. И инженер перестал бывать.
Однажды ночью Берта слышит стук в дверь ее комнаты.
— Берта, отоприте! Мне надо сказать вам два слова! — раздался голос Таубе.
— Говорите, я расслышу и сквозь дверь!
— Мне надо вас видеть!
— Но я уже разделась!
— Тем лучше!
— Нахал! Пошел прочь!
Завтра же надо уехать отсюда!
Почувствовав опасность, Берта решила бежать. Но такие особы, как она, без боя не сдаются.
Берта понимает, что Таубе покушается именно на ее честь и вспоминает те два-три случая, когда попытка усыпить ее ему не удалась. Сейчас ее интересует главным образом вопрос о том, возможно ли загипнотизировать данного субъекта против его воли.