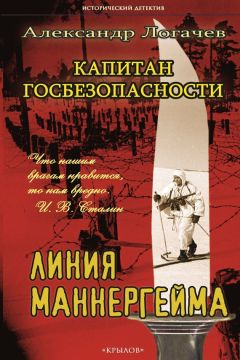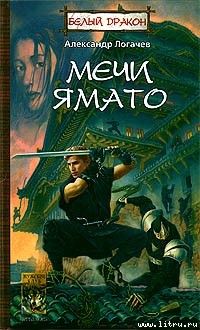– Щас подморозило, клюкву прихватило, самое время ее брать, она сладину дала, – доносилось из-за спины.
Столкнуться с петербургскими знакомыми он не боялся. Не только потому, что их не должно было остаться, ибо не к тому классу они принадлежали, чтобы, даже решив остаться в одной стране с большевиками, дожить до тридцать девятого. Еще и потому он не боялся нежданных встреч, что признать в нем того двадцатилетнего юношу, каким он навсегда уехал из Петербурга, смогли бы разве мать с отцом, будь они живы, голос крови подсказал бы. Остальные – не узнают. Скажем, если его нечаянно увидит дворник их дома на Гороховой, или их кухарка Анфиса, или ее сын. От того астенического и мечтательного юноши не осталось ничего – ни во внешности, ни во взгляде, ни внутри.
Не признал бы в нем сейчас того ищущего смерть юношу поручик Ирбенев, с которым они пробирались на Юг в Добровольческую армию генерал-лейтенанта Деникина. Не узнал бы в пассажире «паровика» того длинноволосого, усатого командира сотни, запомнившегося в неизменной венгерке и папахе, Нестор Иванович, батька Махно. А жив ли сейчас батька? В тридцать четвертом еще был жив, после этого ничего о нем не слышал…
Никто, он уверен, и из польских товарищей по оружию, с которыми он выгонял из Полонии красного упыря Тухачевского, рубил в капусту его красноармейцев, не сказал бы сейчас, что на скамейке пригородного поезда сидит никто иной, как бородатый «пан Толек», отличавшийся беспощадностью и отчаянной храбростью.
Не сумели бы опознать его и американские знакомые, даже американские полицейские, которые имели полное подробное описание его внешности. А они до сих пор его ищут, все-таки он властями штата Огайо приговорен к смертной казни по обвинению в убийстве. Он сбежал тогда из полицейского автомобиля по дороге в центральную тюрьму штата, закованными в наручники руками разбросав конвоиров, и вернулся в Европу в трюме сухогруза.
Не узнал его однажды и друг детства Вовка Набоков, с которым их столкнула судьба в маленьком ресторанчике в Ницце. Он тогда специально подсел к нему за столик. Не узнал, а хотя как писатель должен обладать незаурядной наблюдательностью… Отец Набокова, как и Навроцкий-старший, был кадетом, состояли в партии Милюкова. Они дружили семьями. Но если отца Набокова застрелил в двадцать втором в Германии монархист, успешно делающий сейчас при Гитлере карьеру, то его отца расстреляли в первые дни большевистского переворота так называемые революционные матросы. На следующий день умерла от сердечного приступа мать…
Да и доведись каким чудом оказаться сейчас рядом с ним его финской жене Хельге, с которой он расстался всего-то позавчера, не вглядевшись как следует, она тоже бы не узнала мужа в сутулящемся, опустившим плечи мужчине, напялившем на себя плохо пошитое, мешковатое черное пальто. Ее ввела бы в заблуждение и черная шляпа, ведь ее супруг не носил головных уборов, только в морозы надевал шерстяной вязаный подшлемник…
– Он взялся уплотнить свой рабочий день, – повысил голос кто-то из стоящих в проходе. – Еще полгода назад зарабатывал шесть рублёв в день, нынче гребет семнадцать. Начальников цехов перевели на сдельно-премиальную. Слышь, им начисляют по двум показателям: количество и себестоимость.
Навроцкий поймал на себе пристальный взгляд. Ранее дремавший на противоположной скамье гражданин в ватнике, открыл глаза и изучающе уставился на него. Лучше тебе так пристально не смотреть, подумал Навроцкий. Рисковать он не имеет права и если почувствует малейшую опасность, то вынужден будет ее устранить. Нет ничего проще. В толчее при высадке «паровика», когда все будут отпихивать друг друга, достаточно одного движения рукой и гражданина в ватнике толпа вытолкнет наружу уже неживого.
Они проехали Удельную. Он помнил здешние окрестности, какими они были до переворота, но также знал, что и где находится здесь сейчас. И как это именуется на языке большевистских реалий. Скажем, за тем лесом, что остался позади, находится торфопредприятие, называемое в народе «тыр-пыр». А сейчас они поравнялись с Поклонной горой, которую с чугунки не видно. Но он знает, что на ней установлен памятник Сталину и что пролетарский вождь обращен лицом к городу. У Поклонной горы делают кольцо трамваи семнадцатого и двадцать шестого маршрутов. От Удельной до Сосновки простираются поля совхоза имени Первого мая. А в Сосновке базируется военный аэродром.
Он разбирался в новом городе, носящем имя маленького кровавого ублюдка, не хуже его жителей. По крайней мере, если достоверны те сведения, что доставлял ему еженедельно курьер, присылаемый на отдаленный хутор полковником Меландером. В своем кабинете, куда никогда не входила его финская жена Хельга, он наносил на карту города новые здания, дороги, маршруты городского транспорта, предприятия, памятники, сады, вписывал и переписывал названия.
– А мороза мы не боимся, металл выдерживает мороз, выдержим и мы, – произнес над его ухом бодрый голос.
Хам в ватнике, что пялился на него с противоположной скамьи, снова успокоено задремал. Но дремать ему и другим пассажирам оставалось недолго. Под долгий, торжествующий гудок они въехали на Финляндский вокзал…
Глава третья
Не пейте с незнакомцами
Нам такое не встречалось и во сне,
Чтобы солнце загоралось на сосне,
Чтобы радость подружилась с мужиком,
Чтоб у каждого – звезда под потолком.
Советская песня
Двух было мало. И вообще Павел понял, что сегодня напьется. Так ведь душа горит! Имеет право.
– Ну-ка, мужички, навалились! Заменяем!
Паша как раз подходил с кружкой для повторения, когда потребовалась рабсила. На пару еще с одним мужиком он перекатил опустевшую бочку, приставил к группе таких же пузатых емкостей, опорожненных за день.
– Бери вот эту. – Носок коричневой туфли стукнул по крутому дубовому боку, громко звякнул на женской щиколотке ремешок обувной застежки. – Ставь на место прежней. Шевелись, войско в штанах!
Голос звучал повелительно – баба привыкла командовать мужиками. Павел давно заметил – торговать пивом шли мало того, что самые бойкие женщины в городе, но также самые языкастые и грудастые. Эту, крепко сбитую, лет возле сорока бой-бабу в непременной синей косынке и белом фартуке, звали Галя, по-простому Галка. Про то знали все завсегдатаи «точки» на углу Муринского и Лесного, к которым Паша принадлежал с недавних пор.
Павел полюбил пропускать кружечку-другуюздесь, а не на других остановках. И, в общем-то, не из-за Галки. А нравилось Паше здесь по двум причинам. Во-первых, ноздри ласкал приятственный карамельный запах, плавающий по округе – фабричные корпуса кондитерской фабрики имени Микояна находились сразу по ту сторону железнодорожной насыпи. Во-вторых, здесь, на последней трамвайной остановке Лесного проспекта, пивную торговлю не упрятали пока в «Голубой Дунай»[12], не успели покамест.
И продажа шла в открытую, на всеобщем обозрении, такое мало где в городе найдешь. В том числе и Галка не прикрыта голубыми стенками, вся на виду, любуйся – не хочу.
Но в таком виде «точка» дорабатывала последние дни. Скоро или ее на зиму прикроют, или соорудят-таки ларек. Скорее последнее, потому как иначе будет зазря простаивать возведенный этим летом дощатый сортир.
Чтобы перекантовать новую, полную столитровку, потребовался еще человек. Втроем они, переваливая пивную емкость с боку на бок, установили ее точнехонько в циркульно круглую канавку, продавленную в земле предыдущей бочкой. Галя держала в руках насос, с поршня которого срывались и орошали землю желтые капли.
– Ну-кося, стахановцы, расступились, – Галка занесла насос над бочкой и с одного удара вогнала поршнем пробку внутрь дубовой «толстухи». – Ты, крепенький, – она подмигнула и улыбнулась Павлу, – закрути мне ворот.
– Это мы завсегда, – игриво поплевав на ладони, Паша взялся за ручки деревянного конуса, укрепленного под насосным краном, и принялся вкручивать его резьбу в бочковое отверстие, как шуруп в стену.
– Давай старайся, первому налью, самый свежачок получишь, – утопив руки в пышных боках, подбадривала Галка добровольца пивного фронта.
– И только-то и всего, что получу? – не прерывая верчения, кокетливо осведомился Павел.
– А ты б чего хотел? – прищурившись, взглянула ему в глаза Галка-«крановщица».
– Ну, как чего? Ласки там, того-сего.
– «Того-сего» у жены попросишь. Много вас таких! Смотри крепче мне закручивай, ишь ты шустрик какой!
И, может быть, Паша продолжил бы наступление на любовном фронте, предпринял бы какой-нибудь обход с флангов или иной маневр, может, чего и вышло бы, продавил бы оборону, как поршень бочковую пробку. Но ему напомнили про жену, и враз сдуло все настроение, словно порывом ветра панаму с головы. Сразу вернулось все то, из-за чего после работы он шел сюда, а не домой.