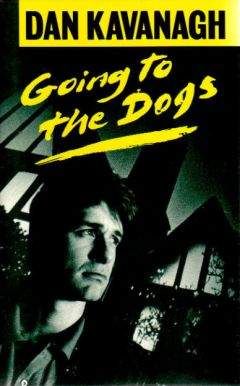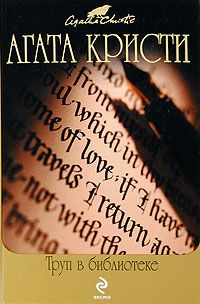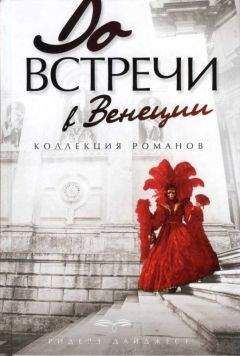— Ах да.
Сейчас, когда она поняла, о чём речь, она снова принялась смеяться.
— В следующий раз я их сниму. Ох, эти шары были такие холодные!
— Не стоит вам этим заниматься, — сказал Даффи. Он не собирался этого говорить, хотел остаться в стороне. Это вырвалось само собой. Как бы то ни было, он и впрямь так думал.
— Делаю, что хочу, — огрызнулась она.
— Не стоит вам позволять ему делать такие вещи.
— Это типа того, что он не будет меня уважать, так, что ли?
Даффи пробормотал что-то невразумительное.
— Вы пещерный человек, знаете вы это? Пещерный человек. И с чего вы взяли, что я хочу, чтобы меня уважали?
Даффи имел в виду не совсем это, но что именно — не мог бы сказать сам.
— Это здорово, — проговорила она без всякого выражения.
Даффи подумал, что что бы он ни сказал этой девушке, большого значения это не имеет. Она, скорее всего, сразу же это забудет.
— Не следует вам столько пить.
— Это здорово, — отозвалась она.
— Это не здорово для окружающих.
— Вы первый, кому это мешает, пещерный вы человек.
— И не стоит вам принимать то, что вы принимаете.
— Это здорово, — сказала Салли. — Это здорово, это здорово, это здорово. А с вами уже не здорово. Сколько вам вообще лет?
— Достаточно, чтобы я мог быть вашим братом.
— Так нечего корчить из себя моего папашу! — выкрикнула Салли.
— Хорошо.
Салли, пошатываясь, ушла, и Даффи продолжал устанавливать датчик. Ему было не по себе. Опять то же самое. И в Браунскомб-Холле всё то же, что и на задворках Южного Лондона, где преступность выше, чем в среднем по стране. Когда появились первые тревожные сообщения о пристрастии молодёжи к парам клея, Даффи ещё служил в полиции. Ребята совали головы в полиэтиленовые пакеты и дышали растворителем. Вроде бы совершенно бессмысленное занятие. Даффи читал всё, что писали об этом в газетах. От клея болела голова, воспалялась кожа вокруг носа и рта, пропадал интерес к окружающему миру. У детей падала успеваемость, осложнялись отношения с домашними — и всё потому, что единственное, о чём они могли думать — это как бы забраться в какое-нибудь укромное место с полиэтиленовым пакетом и аэрозольным баллоном. И это было только начало. Нюхая клей, тоже можно получить передозировку. Они умирали. Десяти, двенадцати, тринадцатилетние дети умирали на улицах и всё по своей вине. Даффи не мог этого постигнуть. Можно винить родителей, можно винить учителей и торговцев, которые должны бы лучше знать, что они продают и кому, можно винить самих детей. Но кого бы вы ни винили, вы по-прежнему не понимаете.
Даффи хотел понять и однажды подошёл к ребятам в переулке, и они не убежали от него. Он не был ни учителем, ни социальным работником, а они были чересчур малы и неопытны, чтобы распознать полицейского. Он спросил у них, почему они это делают. Здорово, ответили они. Как именно здорово? Да по-разному здорово. Вот, например, здорово с самого начала гадать, ведь никогда не знаешь наверняка, что выскочит из этого мешка, когда ты нюхнёшь. И что выскакивает? Да разное, говорили они. Бывает, видишь всякое, вроде как громадные лягушки прыгают через дома, и это чудо. А то слышишь, как вокруг тебя воют ветры, но тебе не холодно, и ты видишь цвета, яркие, ослепительные краски, и тебе хорошо, да, тебе хорошо. Это здорово. И что потом? Потом уже не так хорошо. Ты вроде как опустился на землю, и тебе уже не так хорошо. Но ты знаешь, что будет следующий раз. Это здорово.
Ты не хочешь этого признавать, думал Даффи, но тебе придётся. Они делают это, потому что им от этого здорово, и не важно, происходит ли это под дождём за мусорным баком или в комфортабельной уборной — пардон, туалетной, — на границе Букенгемширского и Бедфордширского графств. Тебе кажется, что это «здорово» не стоит того, что они делают, да ты прямо-таки видишь, что оно того не стоит. Но с их точки зрения, это не так. Можно называть это наркотической зависимостью, но от правды не уйдёшь: они делают это, потому что это здорово.
* * *
— Белинда.
— Подержите-ка.
— Подержать? Её? Где?
— Ну не за хвост же, болван! Здесь.
Даффи пришлось взяться за ремешок, прикреплённый к одной из металлических штуковин — при этом руки у него оказались слишком близко от лошадиной пасти. Господи, какие они большие, эти лошади. Намного больше, чем по телевизору. Огромный выпученный глаз, чудовищной величины жила, губы как диванные подушки, оскаленные жёлтые зубы. И зачем им такие большие зубы, если они едят только траву?
— Спасибо, — сказала Белинда.
Даффи захотелось потрясти головой — вдруг у него заложило уши? Неужели она в самом деле сказала «спасибо»? Неужели он хоть раз что-то сделал правильно?
Пока он держал лошадь — вернее, пока лошадь великодушно стояла на месте и не убегала — Белинда спрыгнула на землю и теперь сняла с него бремя ответственности. Она повела лошадь в конюшню и сообщила, что пока её чистит — или моет, или что там делают с лошадьми после верховой езды — у них есть время поговорить. Даффи предусмотрительно встал у самого выхода. Ещё одной особенностью конюшен было то, что в них воняло лошадиным дерьмом.
— Как Анжела?
— Нормально.
— Как Анжела?
— Принимает слишком много антидепрессантов. Настроение меняется каждую минуту. Приходит, спит с нами чуть не каждую ночь. Вялая какая-то. Совсем забросила физические упражнения.
— Спит с вами?
— Это не то, о чём вы, извращенец, подумали. У нас в спальне есть кроватка. Она детская, но очень большая. И вот, когда ей нехорошо, она приходит к нам, нас даже не будит, а сразу забирается в неё. Утром просыпаемся — а она спит, как младенец.
— Вы думаете, она…
— Ведёт нездоровый образ жизни, как говорят доктора? Не знаю. Это уже дважды заканчивалось плохо. Она моя самая давняя подруга — то есть, моя самая давняя подруга в здешних местах — но я не знаю, что такое с ней происходит.
— Как думаете, кто пытается ей навредить?
— Понятия не имею.
— Но кто-то пытается?
— Может быть.
— Есть кто-то… ну, я не знаю, кто зол на неё?
— Ни о чём таком не слышала.
— Парень, с которым она встречалась? Которого она отшила?
Белинда перестала скрести лошадиный бок и засмеялась.
— Отшила! Сто лет не слышала это слово. Вы имеете в виду, с кем она перестала трахаться?
Ну, вообще-то, я имел в виду немножко большее.
— Отдала ему назад обручальное кольцо, ну и всё такое? — она снова засмеялась. — Нет, Анжела никого не отшивала.
— А как у неё с деньгами?
— Насколько мне известно, она до сих пор не нуждается.
— А что Генри?
До сих пор Даффи видел его лишь мельком; ему запомнился деревенский верзила с квадратным лицом и в такой одежде, в какой Даффи не захотел бы оказаться даже на смертном одре.
— Что Генри?
— Ну… хотя бы… влюблена она в него или нет?
— Надеюсь, сигнализацию вы умеете устанавливать всё-таки лучше, чем задавать вопросы. Отшила? Влюблена? Слушайте, Даффи, если ты женщина, и тебе тридцать… ну, положим, за тридцать, тут морщинка, там морщинка, а ты ещё ни разу не была обручена, а он мужчина ничего, видный, и у него есть усадьба и земли, и предки — значит, ты влюблена.
— Вот как? А что же он?
— Знаю, что у вас на уме. Козни коварной девчонки и всё такое. Что ж, могу рассказать, как это работает для мужчин. Если ты мужчина, и тебе сорок три, и ты всё ещё живёшь со своей мамашей, которая против того, чтобы остаться одной, и тебе не слишком по душе перебравшиеся в деревню аристократки, и у тебя нет друзей, которых все знают, и ты вдруг встречаешь незамужнюю аппетитную молодую женщину, которая ни за кем не замужем, у которой есть кой-какие деньги и которая не возражает против того, чтобы жить с твоей мамой, да при этом ещё умеет водить машину — вот тогда ты влюблён.
— Мне кажется, я понял, — сказал Даффи. — А потом они рожают детей и живут долго и счастливо?
— Не знаю, собираются ли они рожать детей, — сказала Белинда, — но если да, то им следует поторопиться. А счастья у них будет столько, сколько у любой другой семьи.
— В каком смысле?
— В том смысле, что никто ничего не может знать заранее. По большому счёту всё это зависит вовсе не от любви, как вы изволите выражаться, а от выдержки.
— Как трёхдневные состязания?[7]
Белинда с удивлением воззрилась на него поверх лошадиной спины.
— Очень хорошо, Даффи. Где только вы слышали о конном троеборье?
— Видел, наверное, по телеку.
Он вспомнил большую усадьбу и множество мужчин в синих шерстяных шапочках с кисточками, и с тростями, которые раскладывались и превращались в табуреты. Повсюду стояли ленд-роверы, наездники брали барьеры и падали в яму с водой, а голос комментатора звучал так, словно его язык был обряжен в шапочку с кисточкой и подпирался тростью-табуретом.