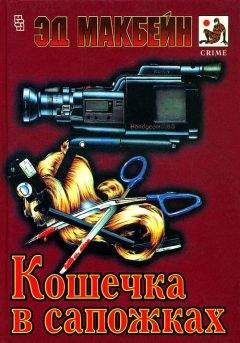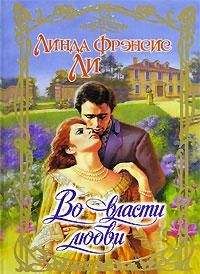Джонатан вопит, потом умолкает. И умолкает все. Даже дождя не слышно. Она отнимает от ножа руку, и Джонатан оседает на пол.
А она выбегает в дождь.
Тутс видела — Леона вышла из дома без четверти двенадцать. На Леоне были черные трико и колготки. Черные туфли-лодочки на низком каблуке. На плече черная сумка. Спортивные туфли, связанные за шнурки, были переброшены через другое плечо. Она швырнула и туфли и сумку на заднее сиденье «ягуара» и забралась в машину. Тутс была сзади нее, неподалеку.
Она последовала за Леоной вверх по Сорок первому шоссе и повернула на бульвар Бэйо, все время держась за ней, и когда та припарковала автомобиль перед фасадом административного здания Бэйо, на бульваре Уэст-Бэйо, дом восемьсот тридцать семь. Двухэтажное белое здание с несколькими вывесками мрачно высилось впереди. На одной из вывесок значилось «Уэйд Ливингстон, доктор медицины».
Леона закурила сигарету. Короткие нервные клубы дыма вылетали из окна «ягуара» со стороны водительского места. На приборной доске у Тутс часы показывали без трех двенадцать, потом стрелки сошлись на двенадцати.
Одна из дверей конторы открылась. Какая-то сиделка во всем белом и туфлях на плоской подошве вышла из двери и двинулась к маленькой красной «тойоте». Она подняла взгляд на небо, пожала плечами, села в автомобиль, завела его и тронулась с места.
Тутс все ждала. Леона выбросила сигарету в окно. Дверь конторы снова открылась. Высокий темноволосый мужчина в очках, в синем костюме вышел из дверей, присмотрелся к автостоянке, заметил зеленый «ягуар» и пошел к нему. «Доктор Ливингстон, — подумала Тутс. — Полагаю, что так».
Ливингстон, если, конечно, это был он, подошел к «ягуару», открыл дверцу со стороны пассажирского места, быстро сел и захлопнул дверцу.
— Давай уедем куда-нибудь отсюда к черту, — сказал он.
Жучок работал прекрасно. Как легко, когда говорят только два человека. Если пользоваться жучком, когда в комнате четыре — пять человек, то можно просто свихнуться, пытаясь выяснить, кому принадлежит каждый из голосов. Но на этот раз все было просто. Всего два человека, да еще мужчина и женщина. Да здравствует такое различие!
— Хорошо, Ли, почему вдруг такая срочность?
«Этакое ласкательное имя», — подумала Тутс.
— Ненавижу, когда ты зовешь меня Ли.
— О, извини, я забыл…
— Меня зовут Леона.
— Да, Леона, я же сказал: извини.
Молчание.
— Вот мы и встретились, почему такая срочность?
— Я хотела должным образом попрощаться.
— Я думал, что весь прошлый вечер был посвящен должному прощанию. Леона, если ты намерена… затягивать до бесконечности…
— Нет. Я же знаю, что ты хочешь покончить с этим.
— Я уже покончил с этим, Леона.
— Да, я знаю. Но я — не покончила.
— Куда мы едем?
Она делала левый поворот на автостоянку при муниципальном центре Хэйли. Большие рекламные щиты извещали об автомобильной выставке на следующей неделе. Грузовики, легковые автомобили, трактора…
— Поговорим здесь.
— Мы могли бы поговорить и по пути. Я не понимаю, почему…
— Я не люблю разговаривать и одновременно вести машину.
Тутс въехала за ними на стоянку. Там было припарковано несколько автомобилей. «Служащие», — предположила Тутс. Среди них какой-то желтый грузовик-пикапчик. Мужчина в рабочем комбинезоне шел по диагонали через стоянку по направлению к автомобильному бюро, расположенному на противоположной стороне улицы.
Леона остановила машину. Тутс проехала вокруг стоянки, обогнула центр, а потом припарковалась так, чтобы видеть «ягуар», рядах в трех от него. Рискованно, быть может, но ей хотелось записать каждое слово этого разговора на пленку, а если бы она поставила машину слишком близко позади них, то, возможно, привлекла бы еще больше внимания. Машина, припаркованная на виду, не выглядела подозрительной.
— Ну, хорошо, давай поговорим, — снова голос доктора. — Ты говоришь, что хотела поговорить, так давай…
И внезапно молчание. Тутс повернулась к магнитофону, думая, что там что-нибудь не в порядке. Катушки вращались, и ручка громкости стояла в положении «включено».
— Что это такое, Леона?
Голос Уэйда Ливингстона или кто он есть, черт подери. Тутс и раньше слышала такие интонации: человек пытается говорить спокойно, а сам на волосок от паники.
— Ну, и как это выглядит, ничего?
— Убери револьвер, Леона, сию же минуту!
Он старается выглядеть спокойным, но паника бьет ключом.
— Я же тебе сказала, что хочу закончить это должным образом.
«Черт подери, — подумала Тутс, — да ведь она собирается пристрелить его!»
— Ты сказал, что хочешь покончить с этим, Уэйд, ну, вот давай и покончим.
Тутс была уже на полдороге к их машине. Она бежала, а они ее не видели. Доктор, Уэйд Ливингстон, судорожно пытался открыть дверцу со своей стороны, а Леона сжимала револьвер обеими руками, как это делают женщины-полицейские в рекламных телероликах. «О, Господи, не убивай его!» — взмолилась Тутс и, уцепившись за ручку дверцы «ягуара», рывком распахнула ее. И хотя они не были знакомы, она назвала ее по имени: «Леона!» — и завопила: «Не надо!» Она схватила ее за плечо и потянула к себе, надеясь, что револьвер не выстрелит случайно и не проделает этакую здоровую дырку в голове доктора.
— Я Тутс Кайли, — сказала она. — Отдайте мне револьвер.
Она протянула руку. Револьвер в кулаке Леоны дрожал.
— Отдайте его мне, хорошо, Леона?
А Уэйд Ливингстон, вжимаясь спиной в дверцу машины, смотрел на все это словно загипнотизированный.
— Кто вы? — спросила Леона.
— Я же вам сказала, Тутс Кайли. Отдайте мне эту штуку, ну пожалуйста.
Леона колебалась.
— Ну, давайте же, Леона, — сказала Тутс. — Есть более подходящие способы, поверьте мне.
Леона посмотрела ей в глаза.
— Вы офицер полиции? — спросил доктор. — Если так, то я хочу выдвинуть обвинение против…
— Вы полагаете, вашей жене это понравится? — спросила Тутс, действуя исключительно по наитию. И лицо доктора побледнело.
— А вот я так не думаю, — сказала Тутс.
Туман над водой начинал рассеиваться и рваться, и сквозь него уже проглядывал горизонт. Элиза сидела рядом с матерью, обессиленная своей обличительной речью с признанием в убийстве. Она поставила знак равенства между своей любовью к Джонатану Пэрришу и неким фильмом сомнительной направленности, и вот теперь она сидела, втиснув свои руки в руки матери, словно кадры этого фильма все еще мерцали и мерцали на экране ее сознания.
— Мисс Брэчтмэнн, — сказал Блум, — возвращались ли вы в дом Пэрриша в какое бы то ни было время после дня убийства?
Типичный голос полицейского. Ровный, лишенный эмоций.
— Да.
— И с какой же, простите, целью?
— Найти фотографии.
— Был ли кто-нибудь в доме, когда вы туда пришли?
— Вы же знаете, что был.
— Мисс Брэчтмэнн, не мог бы я теперь получить оружие и фотографии, указанные в ордере на обыск?
— Я покажу вам, где они. — Она, высвободила свои руки из рук матери, встала и сказала: — Все в порядке, мама. Правда.
Потом она повернулась к ним, к Мэтью и Блуму. Солнце теперь уже почти пробилось сквозь туман. Высокие стеклянные окна ожили от этого света.
— Никто даже и не подсчитал, — сказала она и улыбнулась.
Она смотрела на Мэтью. Быть может, потому, что Блум был полицейским, от которого, ей казалось, она не могла ожидать никакого сострадания. А может, потому, что включила и свою мать в число тех, кто не подсчитал. Она смотрела на Мэтью с улыбкой на лице.
— Вы понимаете? — спросила она.
— Нет, извините, я не…
— Ребенок-то родился в августе. — Улыбка все еще не сходила с ее лица. — С Эбботом я была вскоре после Рождества. В самом конце декабря. Теперь вы понимаете?
Мать уставилась на нее. Мэтью уже понял и подсчитал.
— Ребенок был доношенным, — сказала Элиза.
— Элиза, что ты…
— Я забеременела в ноябре, и ребенок родился точно в срок.
— Что?
— Это ребенок Джонатана.
Софи Брэчтмэнн поднесла руку ко рту.
— Он этого и не знал — ну разве не смешно? В ту ночь, когда я пришла рассказать ему… ну понимаете, это была та ночь, когда он решил… ну… объяснить мне, что из этого никогда ничего не выйдет, та самая ночь, когда он сказал… когда распрощался со мной. — Элиза пожала плечами. Она все еще улыбалась. — Вот я и пошла к Эбботу, в его жалкую комнатенку. В гневе и в… в…
— Элиза, — простонала ее мать.
— Какой прекрасный ребенок у нас был, — сказала Элиза. — У меня и у Джонатана.
— Элиза, дорогая…
— Какой прекрасной семьей мы могли бы быть.
— Дорогая, дорогая…
— Ох, мама, — сказала она и разрыдалась. — Мне так жаль, мне ужасно жаль, пожалуйста, прости меня.