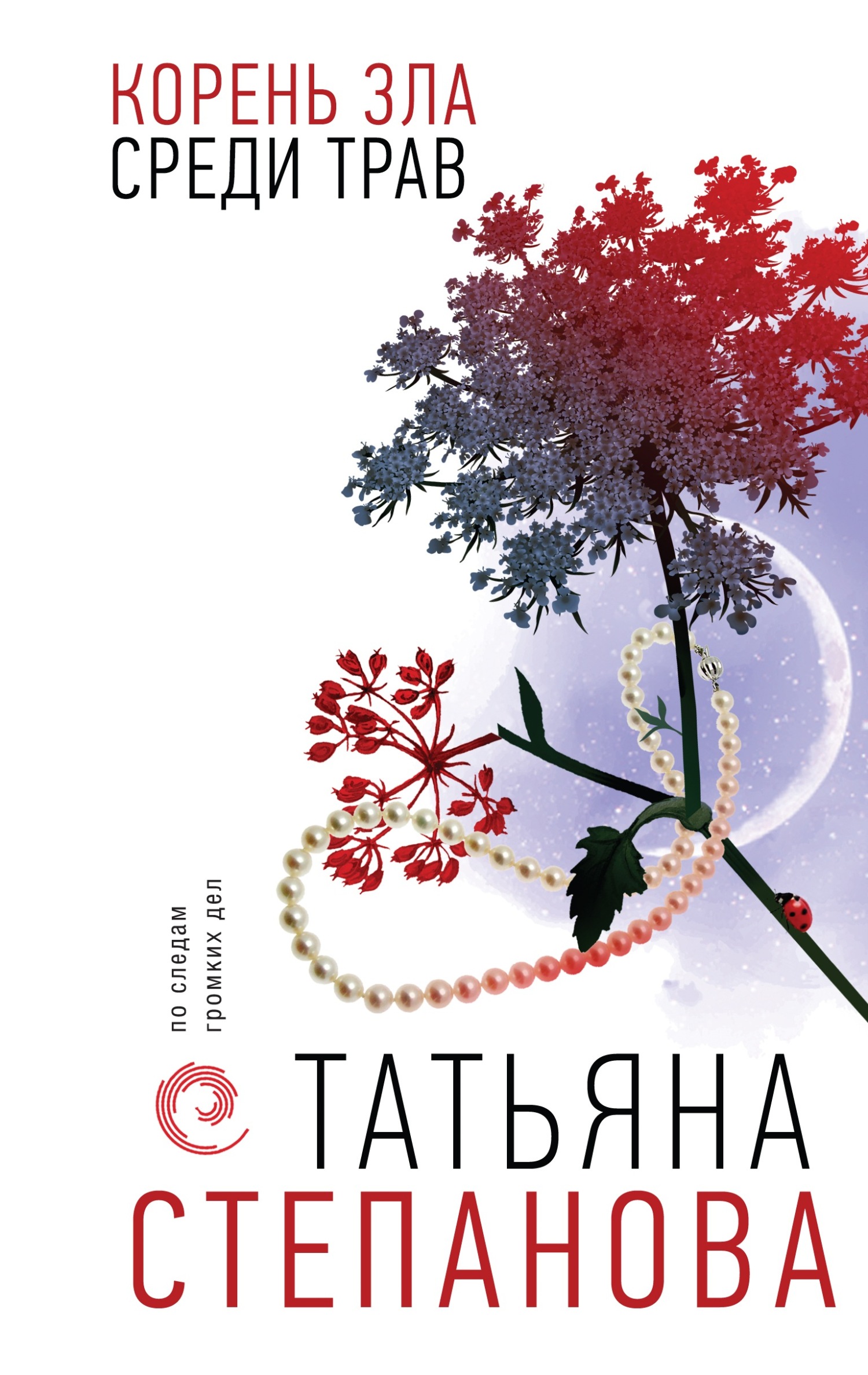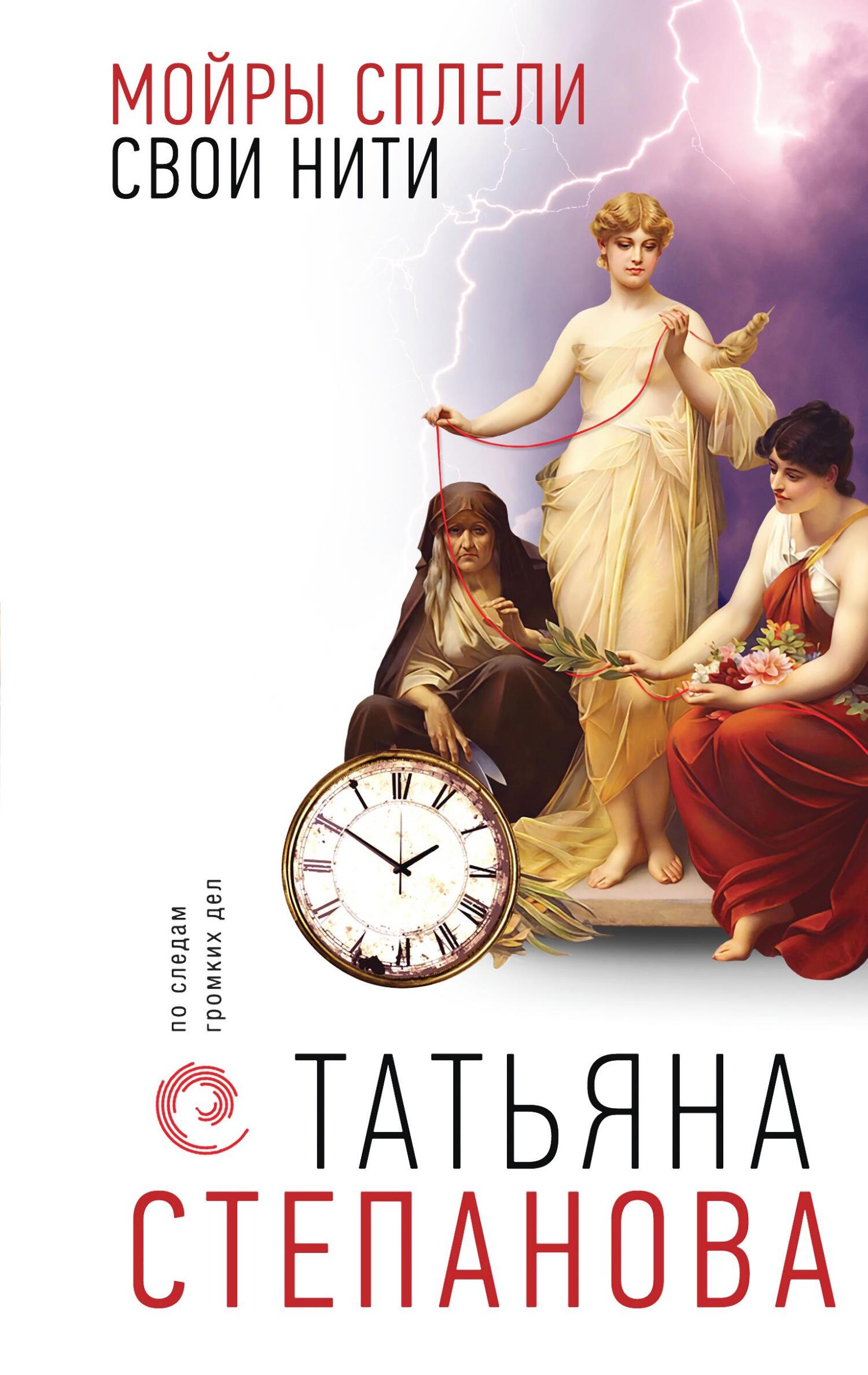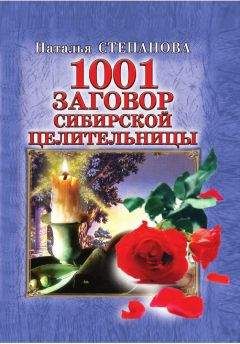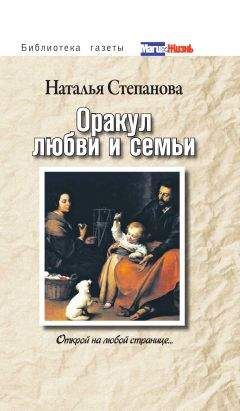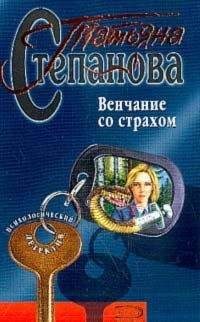ее на себя! Кости и тлен… это тлишь кости и тлен… сухая кожа и все сгорит… сгорит…
Она вытащила труп Темного, который уже внизу полыхал, как факел, обжигая руки, подняла его вверх и обрушила, словно огненный ком, на извивавшегося от боли, придавленного каменной крышкой саркофага Павла Черветинского.
Темный накрыл его собой. Пламя вспыхнуло с такой силой, что языки его достигли потолка часовни.
Клер, не мешкая, схватила с пола панчангатти, ринулась к Евграфу Комаровскому, рассекла сыромятные ремни, привязывавшие его руки к колоннам, разрезала веревку, удерживавшую его ногу. Он повернулся на бок, оперся об пол рукой, кровь текла из его раны на боку.
Клер закинула его руку себе на шею и снова напрягла все свои силы – он рванулся с ее помощью с пола, встал, и они, шатаясь, вышли из полыхающей часовни, где занимался большой пожар. Пламя лизало ковер из хитиновых панцирей и сухих крыльев мертвой нечисти, пожирая свою добычу с великой первобытной алчностью.
У часовни Евграф Комаровский осел на траву: он пытался зажать рукой рану. Клер ринулась к двери – последнее, что она видела там, в пламени, – два свившихся словно две змеи тела – обугленная мумия Темного словно обнимала костлявыми дланями Павла Черветинского, у которого уже полыхали волосы и обуглилось изуродованное псориазом лицо. Клер со скрежетом захлопнула железную дверь склепа, засунула в створ панчангатти словно засов. Из горевшей часовни уже было не выбраться.
Затем она огляделась. У деревьев была привязана вороная лошадь, впряженная в экипаж, – он принадлежал Черветинским, на нем, видимо, Павел и привез их, оглушенных, сюда с места засады. Лошадь билась в упряжи, храпела. Клер подошла к ней спереди – ноздри лошади покрывала какая-то мазь, наверное, чтобы она не чуяла запах волчьей желчи, которую использовал Черветинский. Клер быстро стерла эту дрянь с морды коня и дунула ему в ноздри. Этому научил ее Байрон – он говорил, что в Албании так укрощают самых строптивых скакунов. Лошадь, кося глазом, затихла. «Помоги мне, – шепнула ей Клер. – Я не справлюсь без тебя. Я должна его довести до дома живым».
Она подвела лошадь с экипажем туда, где лежал на траве Евграф Комаровский. Крови вытекло уже слишком много. Клер вспомнила, как она хотела перевязать пулевую рану Гедимина, как рвала черную шаль на полосы. Нет, здесь этим уже не обойдешься, слишком сильное кровотечение.
Она сняла все свои четыре шелковые нижние юбки, рванула подол желтого платья, отрывая от него длинную полосу. Встав на колени, обняв Комаровского, она приподняла его и начала обматывать его торс, бок сложенными вместе юбками, делая толстую повязку и накладывая сверху, как широкий бинт, полосу ткани от платья, завязала, замотала туго.
– Клер…
– Все хорошо, все кончено. Мы сейчас едем домой, – шептала она. – Гренни, обопритесь на меня, я вас подниму, посажу в экипаж…
Она снова закинула его руку себе на шею, потянула вверх, и он, собрав свои силы, поднялся снова – с ее помощью, но сам. Она затащила его на пол экипажа, вскарабкалась, встала там на колени – ей надо было и править лошадью, и держать его, обнимая, чтобы он не бился о сиденье во время скачки.
Она тронула лошадь с места. Она никогда в жизни не управляла экипажем, каретой, но она видела, помнила, как это делал он, когда они ездили и…
– Гренни, как скорее доехать нам? Куда мне поворачивать?
Он прижимался лицом, щекой к ее груди, полулежа на дне экипажа. Поднял на нее свой затуманенный взор. Он потерял уже столько крови… Клер чувствовала, как повязка из юбок промокает насквозь.
– По дороге… до развилки… направо… потом до поворота и опять направо – дорога на Иславское. – Он смотрел на нее.
Она хлестнула лошадь, и они помчались.
Ночь окружала их со всех сторон. Ночь и луна, что плыла над ними в облаках и бесстрастно наблюдала, что получится из всего этого порыва отчаяния и решимости, долга и страдания, надежды и страсти.
На развилке Клер на полном скаку, еле справляясь, повернула лошадь направо. Экипаж едва не перевернулся, но лошадь слушалась, она будто все понимала. Они мчались – перекресток, развилка, поворот. Дорога на Иславское! В темноте волосы Клер развевались от ветра. Она не думала ни о чем, кроме как довезти его живым до дома, где им окажут помощь. Она ничего уже больше не боялась. Она желала лишь одного – спасти его.
– Клер…
– Евграф Федоттчч, пожалуйста… мы доедем, немного осталось. – Она обнимала его крепко одной рукой.
Он смотрела на нее. Внезапно он слегка повернул голову и поцеловал ее грудь.
– Если что… вот так на ваших руках умереть, счастье какое… – прошептал он. – Клер… жизнь моя – это вы… еще бы мне только…
– Что? Гренни, я здесь, с вами!
– Еще бы поцеловать вас… тебя перед смертью…
Их взгляды встретились. Экипаж летел по дороге к поместью. Впереди показалась липовая аллея. Клер бросила поводья, отдаваясь на милость провидения, коня, судьбы…
Она обняла Комаровского и сама поцеловала его в губы. Она словно пыталась поделиться с ним своей силой, пламенем, надеждой, жизнью, чтобы он не угас! Они целовались страстно. Истекая кровью, слабея и одновременно загораясь, он целовал ее, он пил ее дыхание, он любил ее, он был единым с ней.
Лошадь вынесла их с аллеи к дому. Клер оторвалась от его губ.
– Help! [37] Помогать!! – закричала она, – Скорей! Христофор Бонифаттттчччч! Юлия! Помогать! Спасать его!! Не дать умирать!!
В окнах дома зажигался свет, хлопали двери, окна. Лошадь остановилась у самого крыльца. К ним уже бежали слуги, спускались по ступеням Гамбс, Юлия, поднятые с постели.
Клер вместе с Гамбсом и Юлией, вместе с дюжими лакеями осторожно вытащила Евграфа Комаровского из экипажа. Его понесли в комнаты. Гамбс отдавал почти военные приказания: вскипятить как можно больше горячей воды, принести чистого полотна, корпии. Лакеи тащили из гостиной большой стол, потому что на нем было удобно делать хирургию, которая была уже неизбежна. Послали в павильон за Вольдемаром. Тот прибежал.
Затем Гамбс затворился с Комаровским в своей лаборатории, полной лекарств и инструментов. Там настежь распахнули окна. Вольдемара Гамбс оставил за ассистента – помогать при операции.
Клер вышла из дома. Сначала она подошла к вороной лошади, погладила ее, мысленно благодаря. А потом как была окровавленная, с закопченным сажей лицом, грязная, в разорванной желтой юбке, со спутанными ветром волосами, опустилась на каменные ступени дома.
К ней пришла Юлия. И молча села рядом.
Так они встретили рассвет.