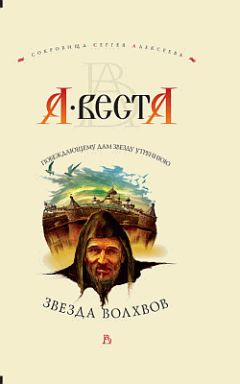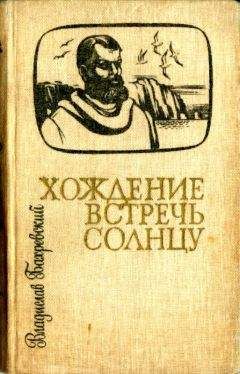– Нормально... – одобрил Егор и, оглядев круглый зал с высокими арочными окнами, мраморными чашами и хрустальным куполом, добавил: – Да и с жилищными условиями вам крепко подфартило. Вы одна здесь обитаете?
– Вместе с Ладой. В отличие от меня, она оказалась очень способной, но теперь не знаю, как сложится ее карьера.
– Артистическая?
– Нет, балетная. В этом году она закончила балетное училище.
– Она была замужем?
– Ну что вы все «была» да «была»? – Флора перелила вино через край, и алые капли брызнули ей на колени.
– Виноват, но ваша сестра ушла со съемочной площадки, и до сих пор не вернулась.
– Только и всего? Ничего страшного. Она очень импульсивная. Может вспыхнуть, все бросить и удрать в Париж или в Лондон, на неделю или на две. Но через день-другой ей все надоест, и она раскается и вернется, ласковая, как котенок. Так с ней уже бывало. Не волнуйтесь!
– Разве может девушка с таким норовом не волновать и не тревожить?
– Да, вы правы. В ней все же есть что-то роковое. Потому все так и случилось...
– Что случилось?
– Представьте себе это загадочное влечение несоединимых противоположностей: танцовщица и художник-иконописец, точнее реставратор икон. Он увлекся ее огнем и свободой. Теперь я понимаю: за ним стоял мир возвышенных и бесплотных образов, в котором не было места живой Ладе.
– Живой, вы сказали живой?
– Живой, не мертвой же. Никас пытался ухаживать за ней, но потом между ними что-то произошло... Он исчез. Не бойтесь, мой милый Пинкертон, исчез не в милицейском смысле. Он просто ушел...
– В монастырь?
– Откуда мне знать? От их недолгой любви остался один-единственный портрет.
– Это портрет Лады?
– Да, конечно.
– На картину можно взглянуть?
– Почему бы и нет... Но сначала надо найти ключ от мастерской. Никас передал его Ладе, чтобы она смогла забрать портрет, если захочет.
Флора вышла в соседнюю комнату. Севергин проводил ее взглядом: развратница или святая, не ведающая греха?
Она вернулась одетая в розовую тунику. С волнистыми распущенными волосами она была похожа на греческую жрицу или весталку.
– Так лучше? – усмехнулась она.
Проклятие, она показалась ему еще более голой, чем прежде. А может быть, долгое воздержание сыграло с ним злую шутку, но Егор едва не задохнулся в своем не по-летнему плотном костюме.
– Вы везучий! Я нашла ключ, – Флора показала маленький ключ на цепочке, словно когда-то его носили на груди.
Она накинула на плечи свободный черный плащ с искорками стразов, обула на ноги золотые сандалии-плетенки и через несколько минут вывела во двор изящный автомобиль, чем-то похожий на серебристую озерную чайку.
Духота сменилась влажным, порывистым ветром. Темное небо дышало близкой грозой. Городские ущелья в ожерельях огней были пусты и полны тревожного ожидания.
– Это ее первая и очень успешная роль. Лада моложе меня, ей всего восемнадцать, – говорила Флора, и Севергин отметил, что она не допускает мысли, что с сестрой случилось что-то серьезное.
В подвал, позади запасников Пушкинского музея, Севергин и Флора попали около полуночи. Мастерская была заставлена статуями в парусиновых чехлах и полотнами, натянутыми на подрамники.
– Это осталось от старого хозяина. – Флора кивнула на ряды мраморных богинь. – А это – его...
Егор с минуту смотрел на полотно: красочный слой из цветных вспышек и приглушенных пятен вздымался разноцветной лавой. Сначала он ничего не видел, но едва взгляд привык и нашел фокус, как на живом шевелящемся ковре проступило женское лицо, сотканное из разноцветных лепестков, из снежинок и молодых листьев. Это была удивительная стереоскопическая живопись. Егор немного повернул голову, и девушка тоже повернулась в профиль. Он видел юный девичий лик с прижатой к устам дудочкой-жалейкой, в шутовском колпачке набекрень. Отступив от картины на несколько шагов и изменив угол зрения, он различил мертвенное лицо с посиневшими губами, просвечивающее словно сквозь воду.
– Никас писал эту картину пальцами, – прошептала Флора, – тонким слоем краски: лепестками пигмента, похожими на пыльцу бабочки. Глаза его были закрыты. Он ощущал цвета кожей. Глаза слишком часто лгут и толкают к пропасти, и вы сегодня в этом убедились...
Егора вновь пробрал жар и стыд, словно он сам был голым пред этой странной женщиной в черном плаще, обсыпанном звездами.
– Вы думаете, что успели прочитать в картине все? Нет, там сокрыто еще тысячи образов. Когда я увидела эту картину, я испугалась: человек с таким зрением обречен страдать! Теперь вы поняли, почему он ушел?
– Не совсем. Я бы назвал это игрой воображения, не больше.
– Никас учился иконописи, но его искусство скорее демоническое, чем ангельское. Искусство – это магия, а живопись – магия вдвойне; в этих полотнах больше жизни и души, чем в живом существе. Художники и писатели по сути своей маги. Они вызывают из небытия, из первобытного хаоса семена образов, они облекают их в плоть и нарекают имя. Никас мог творить миры из звездного света, минуя грубые формы, именуемые жизнью тела, но едва заглянув в этот колодец, он испугался. Раскаленным зрением влюбленного он прочитал ее судьбу.
Флора умолкла.
– Вы что-то сказали о колодце? – напомнил Севергин.
– Нет-нет, вам показалось. Хотя, знаете... В средневековых книгах встречается странное название «колодец истины». Истина пришла в наш мир нагой, но влюбленный Мастер одел ее в символы...
– Скажите, как фамилия влюбленного мастера?
– Барятинский, Николай Барятинский.
Егор записал в блокнот фамилию художника и посмотрел на часы:
– Ну что ж, мне пора. Прощевайте!
Внезапной грубостью Егор хотел разрубить хрупкие цепи влечения, которыми эта женщина успела оковать его волю. Он резко открыл дверь мастерской и вышел на ночную улицу. Беззвучно шарахнулась в проулок куцая тень и слилась с ночным мраком.
– Постойте! – окликнула его Флора. – Егор, остановись!
Она все же догнала его и умоляюще коснулась его руки, но лучше бы она не делала этого. Севергин стиснул ее ладонь, чтобы она ощутила мгновенную боль.
– Может, сознаешься напоследок, зачем тебе понадобился этот стриптиз?
– От судьбы не уйдешь, – усмехнулась Флора, не отнимая руки, – Ты – Севергин! От Сварога идет твой чистый и светлый Род. И наша встреча не случайна...
– Дальше! Говори дальше!
– Не здесь и не сегодня. Мы еще увидимся. Ты ступил на Стезю Истины, и не всякий, сделавший первый шаг, будет идти до конца. Это путь сильных...
«Кто ты?» – беззвучно крикнул он.
– Таких, как я, проклинали и жгли на кострах, и теперь ты знаешь, за что.
«Ведьма!» – мелькнуло в голове Севергина.
– Вы позволите ведьме отвезти вас домой?
– Не позволю, – ответил Егор.
Флора мягко выскользнула из захвата и пошла обратно к машине. Черные волосы плясали, и плащ не скрывал изгибов тела.
Севергин в бешенстве сжал кулак и с силой саданул костяшками о кирпичную стену. Острая боль отрезвила его.
Ходить бывает склизко по камешкам иным...
Владыка Валерий оставался в монастыре уже третий день, решительно переняв у настоятеля Нектария бразды правления. По прямому указанию владыки Велесов холм и часть Царева луга обнесли дополнительным рубежом охраны. Земли «Целебного родника» оказались под защитой монастыря. На лугу шумели экскаваторы, прокладывая траншею под дополнительную ветку водопровода.
Перед вечерней службой в соборе владыка дал короткую и решительную пресс-конференцию журналистам. С ними он всегда общался с тайным удовольствием. Эта абсолютно мирская, расхлябанная публика была, как ни странно, близка ему. Они тоже были «ловцами человеков», жрецами, поставленными высоко над толпой, поэтому владыка и эти пронырливые бестии отлично понимали друг друга. Валерий устраивал смелые и острые пресс-конференции, а журналисты на весь белый свет славили «передового попа».
Энергичный и собранный владыка с шумом и шелестом вошел в зал для конференций. Зал был предупредительно предоставлен Шпалерой. В этой любезности и готовности идти навстречу всем его начинаниям владыке чудился рассвет, ренессанс светско-церковной симфонии. Окружение Шпалеры все еще состояло из перекрасившихся коммунистов, но именно эти бывшие безбожники так неумело, но истово крестились перед телекамерами, так старательно держали в потных ладонях свечи, так терпеливо выстаивали долгие службы, в которых ничего не понимали, что владыка верил: они на пути к исправлению. В общении с ними, правда, все еще возникали некоторые препоны . К примеру, они крепко жали руки святым отцам и подолгу трясли, вместо того чтобы канонично коснуться губами. Даже цари не брезговали целовать архиерейскую десницу, теперь же высокие политические бонзы норовят по-брежневски лобызаться с батюшками в щеки и в губы. Предвидя грядущие воспитательные трудности, владыка пока не требовал от Шпалеры и его свиты соблюдения строгой обрядности.