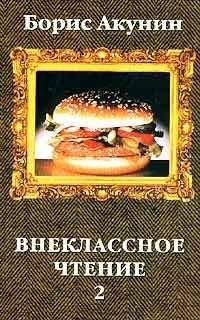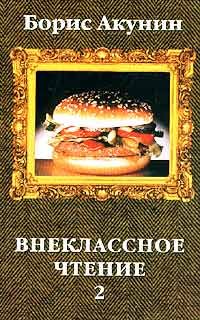Вот тебе и весь мой сказ.
— А куда мы едем? — спросил Митридат, приподнимаясь и озирая окрестности, вид которых, впрочем, ничего ему не подсказал — поле, лес, деревенька вдали.
— Теперь, право, все равно, — безмятежно молвил Данила. — Я сбежал из-под ареста. Думал в Москву заглянуть: единственно, чтобы не прибавлять к своим преступлениям еще и самое низменное — воровство. Оставлю казенное имущество, — он кивнул на лошадей, — подле какого-нибудь околотка, и буду совершенно свободен. Я ныне беглый, бродяга. Ты же, дружок, и вовсе не поймешь кто. Персона без имени, существующая на свете без соизволения церкви и начальства.
— Разве я больше не Дмитрий Карпов?
— Нет. Конногвардейский вахмистр, которого ты только что помянул, скончался и похоронен в Ново-Иерусалимской обители. Так покойнее для всех и в первую очередь для него самого.
— Кто ж я теперь? — потерянно спросил Митя, который, оказывается, уже был никакой не Митя, а персона без имени.
Фондорин ответил не сразу, а когда заговорил, то не так, как обычно, а медленно, с запинкой:
— Об этом я и размышлял, пока ты находился под воздействием паров белильной извести. Хочешь… хочешь быть мне сыном? Ты мне душой родня, а это больше, чем по крови. Может, мне тебя Высший Разум послал, вместо моего Самсона. Он, правда, двумя годами старше… был, но разница невеликая. Свидетельство о его смерти не выправлено, а стало быть, для государства он, в отличие от Дмитрия Карпова, жив. Будешь Самсон Данилович Фондорин, а? Все же дворянский сын, свободный человек. Если согласишься, пойду в полицию с повинной. А может, откуплюсь от побитого капитана Собакина, червонцев-то еще много осталось. И заживем с тобой вдвоем где-нибудь в дальней местности, никто нам не нужен. Имущества у меня никакого нет, но, Разум даст, с голоду не умрем, я ведь лекарь…
И замолчал. На спутника не смотрел. Показалось, что даже вжал голову в плечи, словно боялся услышать ответ.
И Митя тоже молчал. Вспомнил про папеньку — передернулся. Маменька? Прав Маслов, она быстро утешится. Братец? Тот лишь рад будет…
Сел рядом с Данилой, обнял его. Мысленно проговорил по слогам свое новое имя: Самсон Фон-до-рин. Звучит не хуже, чем Дмитрий Карпов.
Потом ехали в молчании, навстречу светлеющему дню.
— А государыня? — спросил сын. — Ведь отравят ее — не один, так другой. Не быстрым ядом, так медленным.
Отец выдернул соломинку, сунул в рот, пожевал. Было видно, что ответ предстоит пространный.
— Да ну их, земных властителей. Все они единым миром мазаны, пускай пожрут друг дружку. Только навряд ли царем станет Наследник. Сие была бы историческая несуразица, гиштория такого не захочет. Я верю. что в гиштории есть движение и смысл. Иногда ловкачи хитростью замедляют или перенаправляют ее течение, но ненадолго. Подобно реке, бегущей к морю, история лишь сделает изгиб в своем русле и вернется на предуготованную стезю. Ну обхитрит Маслов итальянца и возведет на престол свою куклу. Не усидит она долго, кувыркнется вместе с кукловодом. Время сейчас не такое, чтоб всем носить естество на одну сторону, как у гатчинских солдат. Снасильничать общество не под силу никакому тирану и никакому Магу. Это только кажется, будто чрезмерно волевой правитель способен перевернуть целую страну вопреки ее воле и желанию. Способен — но лишь в том случае, если сих перемен внутренне желает активная фракция, про которую мы с тобой уже говорили. И мудрый государь сей закон разумеет. Маслов же хоть и умен, но не мудр. А Наследник еще того менее. Государственная мудрость, Дмитрий, состоит не в том…
— Самсон, — поправил Фондорин-младший.
— Государственная мудрость, сын мой, состоит не в том, чтобы плыть наперекор ветру, а в том, чтобы вовремя подставить под него парус. Августейший Внук, в отличие от своего родителя, дитя новых времен и новых устремлений. Ему и царствовать, чуть раньше или чуть позже. Маслов с Метастазио могут сколь им угодно суетиться и коварничать, воображая, будто изменяют ход истории, но…
Динь-динь-динь, доносился спереди серебряный звон колокольцев, с каждой секундой приближаясь.
Навстречу тройке по белой дороге неслась запряженная белой шестеркой белая карета на полозьях — будто сама Царица Зима ехала осматривать свои владения.
— Mon pe`re примите в сторону, — перебил оратора Самсон, не придумав, как обратиться к новообретенному отцу по-русски — слово «папенька» язык произносить отказывался. — Вон как гонят. Не сшибли бы.
Фондорин дернул вожжи, заворачивая коренника на обочину.
Но остановилась и чудесная карета.
Кучер крикнул с высоких козел:
— Эй, служивый, где тут у вас поворот на сельцо Осушительное? Не проехали мы?
Из окна экипажа высунулась дамская головка в собольей шапочке.
— Не Осушительное, а Утешительное, стюпид!
Данила издал диковинный звук, средний между стоном и всхлипом, Самсон же закричал что было мочи:
— Павлина!
То, что последовало далее, до некоторой степени напоминало знаменитое античное творение «Лаокоон и его сыновья, опутанные змиями», ибо в переплетении объятий, взмахах рук и быстром перемещении лобызающихся голов нелегко было разобрать, какая часть тела кому принадлежит. Производимым же шумом сия сцена могла бы поспорить с финальной картиной пиесы «Триумф добродетели», которую покойный царский воспитанник Митридат видел в Эрмитажном театре — как и в «Триумфе», все восклицали, плакали и ежемгновенно благодарили то Господа, то Разум.
Самсон просто повизгивал, даже не пытаясь сказать что-либо членораздельное.
Данила нес чушь:
— Знак свыше… Еще разок, всего разок… Спасибо, Разум! Ах, теперь и умереть… Какое счастье! Какое несчастье!
Одна Павлина говорила дело, но остальные двое ей мешали — то старого надо было целовать, то малого.
— Полночи металась, сон не шел… Чувствую — не могу! Грех, а не могу! Лучше в петлю… Бросилась к вам, Данила Ларионович, а вас нет! Слуги говорят, еще вечером уехали, с какими-то ярыжками, на тройке. Догадалась — в Утешительное, больше некуда… Велела запрягать! Дорогой всё обдумала, всё решила! Боялась только, не найду. Слава Богу, нашла! Чего мы так напугались? Кого? Платона Зурова, его итальяшку вихлястого? Пустое, много шуму из ничего. Это они в Питере всесильные, а держава у нас, благодарение Господу, большая. Чем от дворцов дальше, тем привольнее. Уедем, Данила, на край света. У меня завод за Уралом, от мужа остался. Две тыщи верст от Зимнего, а то и больше. Не достанет нас там Метастазио, а сунется — ты ему живо укорот дашь. Побесится князь Платон, да и успокоится — сыщет себе другой предмет, покладистей меня. Поедем, Данила! Будем жить и любить друг друга — сколько Господь даст. И Митюшу возьмем. Надо только его батюшке с матушкой объяснить, что это ради его спасения.
— Не надо им объяснять! — крикнул Самсон, покоренный величавой простотой идей. А еще говорят, будто женский пол разумом слабее мужского. — Я и так поеду!
— Но я слишком стар для вас, — сказал Фондорин испуганно.
— Любящие всегда одного возраста, — назидательно ответила графиня.
— Я нищ, у меня ничего нет.
— А это слова обидные. После будешь просить у меня за них прощения.
— И наконец, — совсем потерялся Данила, — у меня дитя от прежней женитьбы. Вот оно, перед вами. Я искал его и нежданным образом нашел.
Павлина озадаченно перевела взгляд с Фондорина на мальчика и, кажется, догадалась, в чем дело.
— Это не твое дитя, а наше. И ежели ты не женишься на матери своего сына, то утратишь право именоваться порядочным человеком. Гляди, ты совсем его заморозил в своих убогих санях. Беги в карету, Митюша.
— Я Самсоша, — поправил сын.
* * *
Перед самой Драгомиловской заставой догнали гренадерскую роту, видно, возвращавшуюся с плаца. Впереди маршировали барабанщики, ложечники, мальчики-флейтисты. Сбоку вышагивал субалтерн — ротный капитан по утреннему времени, должно быть, еще, почивал.
Флейты монотонно высвистывали строевую мелодию, барабаны стучали невпопад, ложечники и вовсе не вынули своих кленовых инструментов.
Павлина велела кучеру остановиться. Поманила офицера.
— Скажите, господин военный начальник, умеют ваши музыканты играть «Выду ль я на реченьку»?
— Как же, сударыня, — ответил румяный от мороза офицер, с удовольствием глядя на красивую даму. — Новое сочинение господина Нелединского-Мелецкого, вся Москва поет.
И пропел звонко, чувствительно:
Выду ль я на реченьку, погляжу на быструю,
Унеси ты мое горе, быстра реченька, с собой!
— Так пусть сыграют, — попросила Павлина; — И коли постараются, всей роте на водку.
— А мне что? — томно спросил субалтерн.
Из глубины экипажа колыхнулся было суровый Данила, но графиня толкнула его в грудь — сиди.