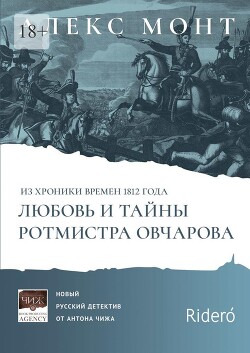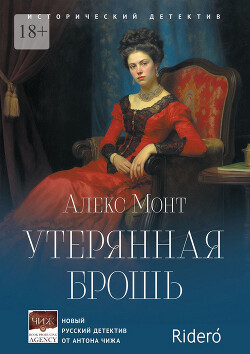Выданная Ростопчиным подорожная действовала безотказно, лошадей на почтовых станциях отпускали без промедления, и к исходу третьего дня пути их маленький поезд добрался до Торжка, где по общему согласию решили встать на ночь. Оставив экипажи на постоялом дворе на попечении Фаддеича и Трифона, в заезжий дом [75]поехали на извозчике. У Павла мелькнула мысль не застревать в Торжке, однако недомогание Акулины потребовало остановки. Ещё в Твери девочка принялась кашлять и её познабливало, в Торжке же случился жар, начисто пропал аппетит, и она с трудом передвигала ноги. Павлу пришлось нести её на руках, когда извозчик довёз их до места. К ночи жар усилился, послали за лекарем. Тот прописал горячее питьё, оставил склянку микстуры, гору порошков и пилюль и, пробурчав, что заглянет утром, уехал. К утру Акулине сделалось хуже, жар снедал её, и время от времени она впадала в беспамятство.
Приехавший доктор щупал пульс, прикладывал руку к пылавшему лбу и с непроницаемым видом толок в ступке очередную порцию привезённых лекарств, объясняя причину жара малопонятными латинскими терминами. На Анне лица не было, Павел с Пахомом выглядели не лучше, да и с первого взгляда равнодушная Настасья переживала. В полдень Акулина начала бредить и поминутно звать Овчарова. Лекарь предложил пустить кровь, но, видя, что на лице девочки и так ни кровинки, Анна энергично воспротивилась.
— В таком случае я более вам не надобен, — заявил хладнокровный эскулап и, пробормотав, что отныне всё в руках Божьих, пряча глаза, удалился.
— Может, батюшку позовём? — проронил глухим голосом Павел.
— Вы что тут, все сговорились?! Хоронить её удумали?! — напустилась на него Анна и, склонившись над Акулиной, поменяла ей повязку на лбу, так как положенный ранее лёд уже стаял.
— Ваше высокоблагородие! — приоткрыв дверь, в коридоре мялся гравёр в компании незнакомого монаха.
Овчаров вышел из комнаты и вопросительно уставился на Пахома красными от бессонницы глазами.
— Вот, они помочь могут! — кивнул тот в сторону служителя Господа.
— Инок Борисоглебского монастыря Пармений! — представился чернец.
— Вы пришли причастить Акулину, отче? — с оглядкой на дверь, тихо спросил Овчаров.
— Я явился исцелить твою дочь! — решительно заявил монах и, не спрашивая разрешения, вошёл в горницу.
Анна удивилась появлению черноризца и, негодующе сведя брови, хотела уж выставить его, но Пармений предупредил её намерение:
— Не исповедовать и причащать пришёл я дитя твоё хворое, а исцелять от недуга, ея пожирающего.
С этими словами он приблизился к кровати и, положив ладонь на пылающий лоб Акулины, принялся творить молитву. Анна отступила на шаг, в её глазах загорелась надежда. Павел с Пахомом теснились у двери, молча наблюдая за манипуляциями монаха. Завершив молитву, инок убрал руку со лба девочки, перекрестил её и пристально посмотрел в глаза Овчарову.
— Ступай в храм Божий, сыне, и покайся! Когда пастырь отпустит грехи твои, дочь твоя исцелится, — провозгласил он и вышел из комнаты. Больше его никто не видел.
Изумлённый Павел не стал медлить и поспешил в церковь.
— В чём ещё грешен, сыне? — выслушав исповедь Овчарова, спросил священник.
— Кажись, всё, — с оглядкой на толпившихся в храме прихожан, полушёпотом отозвался он.
— Всё ли? — настаивал отче, не желая отпускать его.
— Да вроде… — принялся лихорадочно вспоминать он, как на ум пришёл тот странный греховный сон в усадьбе Салтыковых в Красном на Пахре, и он, не таясь, поведал его батюшке.
— Что ж, вижу, ничего не утаил ты от Господа! Царь Небесный милостив, ступай домой с миром. Грехи твои прощены будут, за то я помолюсь, но не забудь прийти в обитель святых мучеников Бориса и Глеба и поставить свечу за упокой души рабы божьей Дарьи. Да упокоится душа ея многогрешная и не будет являться она на землю да смущать людей праведных! — перекрестил его священник на прощание.
Извозчик ждал Павла возле паперти, и, раздав щедрую милостыню, он поехал в монастырь, а уж потом вернулся в гостиницу. Трепеща от неизвестности, поднимался он по ступеням; когда вошёл в горницу, навстречу ему бросилась красная от слёз Анна. «Неужто?..» — страшная догадка пронзила его, как он услыхал Акулину:
— Тятко, тятко! Где же ты был?! Я уж соскучала!
Обняв невесту, подбежал он к постели и, присев с краю, наклонился над ребёнком, сглатывая подступивший комок и сквозь слёзы улыбаясь…
Три недели прожили в Торжке, прежде чем недуг Акулины окончательно отступил и она смогла встать на ноги. За время её болезни Павел и Анна необычайно сблизились. Когда Акулине стало лучше, они оставляли её на попечение Настасьи и Пахома, а сами совершали прогулки по Торжку. Умиротворительная атмосфера уездного городка с его неторопливым, размеренным бытом, деревянными домами и многочисленными церквями с устроенными при них мастерскими золотого шитья, живописные берега Тверцы, вдоль которой, взявшись за руки, они каждодневно гуляли и не могли наговориться, а главное, болезнь Акулины помогли им лучше понять и узнать друг друга. Прошёл ноябрь, наступили холода, снег густо устлал округу, и, чтобы продолжить путешествие, экипажи поставили на полозья. В первых числах декабря они выехали в Петербург.
— Отчего вы так задержались, право?! Государь уж покинул столицу и отбыл в Вильну, навстречу армии! — огорошил Павла секретарь главнокомандующего в Петербурге Вязьмитинова, к которому его провёл гулкими коридорами и опустевшими лестницами дежуривший во дворце флигель-адъютант.
Ознакомившись с подорожной подробнее и, кося намётанным глазом на личную печать Ростопчина, секретарь решил принять участие в судьбе ротмистра. Годы службы у Вязьмитинова научили его жизни.
— Сейчас уж поздно, — кинул взгляд на массивные напольные часы он, — однако завтра я попробую устроить вам аудиенцию у его высокопревосходительства, — поклонился на прощание предупредительный чиновник.
Выйдя из мрачной громады дворца, Павел поспешил в близ стоящий дом Кусовникова [76], где помещалась знаменитая Hotel de L’Europe [77], кою выбрала для постоя Анна. Там он узнал об ответе дядюшки на её записку, посланную немедля по приезде в гостиницу. Беглым, размашистым почерком Пётр Васильевич извещал, что будет рад видеть любимую племянницу в своём доме, однако её одну. «Жду тебя завтра, ma chere niece [78]. Потолкуем, как водится средь благородных людей, по-родственному и тет-а-тет. Мы же одна семья, Аннушка! Ежели желаешь непременно быть с избранником своим — воля твоя, однако ж, разумею, будет лучше нам встретиться вдвоём».
— Поезжай, Аня, к дяде, как он просит. Может, тогда разговор у вас сладится, а я покамест его высокопревосходительство навещу. Вдруг аудиенция мне назначена будет.
— Не верю я дядюшкиным словам, наверняка козни задумал, — порывая записку, задумчиво вздохнула она и подошла к зеркалу.
Чёрные обручи под глазами — след бессонных ночей, проведённых у постели Акулины, — исчезли без следа, щёки подрумянились, лоб разгладился. Анна понравилась собственному отражению и улыбнулась.
— Не тревожьтесь понапрасну, ma chere! Не съест же он вас! А ежели потребного опекунского согласия дать не соизволит, падём в ноги императору. Государь не оставит нас своей милостью! — попеременно переходил с «ты» на «вы» Павел в разговоре с невестой.
Вязьмитинов любезно принял Овчарова. Попросив подорожную, он с почтением прочитал её, затем проглядел бывший при Павле охранный лист светлейшего и осторожно, дабы не помять, повертел в руках запечатанное красным сургучом, в конверте с вензелями графа, письмо Ростопчина государю, кое тот вручил Овчарову напоследок.
— Переданное вам моё письмо государю облегчит доступ к императору, — прощаясь, шепнул ему на ухо Ростопчин.