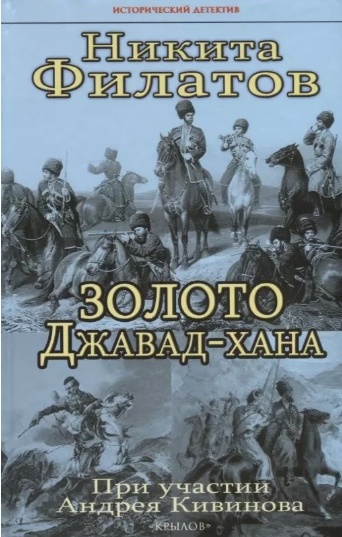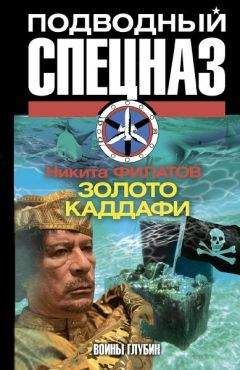понять, что как раз ему-то и не следует принимать подобное определение на свой счет:
— Согласитесь со мной, господа, что у нас повсеместно мельчают учреждения, мельчают люди, усиливается дух хищения и наживы и всплывает наверх всё легковесное и пустое…
При таких условиях, полагал адвокат, для писателя с дарованием Салтыкова трудно было бы воздержаться от сатирического взгляда на происходящее. Старый друг, разумеется, признавал, что Михаил Евграфович в пылу борьбы бывал несправедлив по отношению к отдельным людям и даже к целым государственным или общественным учреждениям — однако исключительно по той причине, что уровень требований его к окружающей жизни был необычайно высок. Слишком многие не понимали этого и вследствие непонимания от души ненавидели Салтыкова-Щедрина, низводя его до степени фельетониста.
С одной стороны, так называемые «революционные демократы» считали, что Михаил Евграфович своими статьями и книгами возбуждает у публики вовсе не негодование, а смех, потешая, прежде всего, именно тех, против кого направлены его удары. «Да, он обличает неправду, но лишь ради того, чтобы ракету пустить и смех произвести», — писал про Салтыкова-Щедрина известный либеральный критик Дмитрий Писарев.
При этом представители противоположного литературно-политического лагеря вовсе отказывали редактору «Отечественных записок» в идеалах и положительных стремлениях. По их мнению, Салтыков-Щедрин занимался только издевательством над окружающими, перетасовкой и пережевыванием небольшого количества тем, которые давно уже всем наскучили.
— Чудесная баранина, право слово… С моей точки зрения, в литературной полемике, как и в делах политического характера, всегда можно прийти к разумному соглашению… — отложил нож и вилку присяжный поверенный: — Потому что по обе стороны, так сказать, баррикад, существуют натуры порядочные и самоотверженные, цель которых, по существу, совпадает. Ведь усилия тех и других направляются на такие изменения государственного порядка, которые бы послужили на благо отечества нашего.
— Только вот благо это мы с нигилистами понимаем по-разному, — напомнил граф.
— Безусловно. Однако хотелось бы вам кое-что прочитать… — адвокат вытер ладони салфеткой достал из кармана сложенный в несколько раз листок бумаги. — Вот, пожалуйста:
«…Питая, особенно нежные чувства к своему идеалу, я в то же время признаю существование и других, и, следовательно, могу любить и уважать людей, которые к осуществлению их стремятся, раз только служение это бескорыстно… В истории, да и в жизни современной, часто приходится видеть двух врагов, проникнутых друг к другу уважением….. [46]»
— Слова, слова, слова… — поморщился Лорис-Меликов. — Баранина и вправду хороша.
Алексей Михайлович сложил бумагу:
— Эту записку передал из крепостного каземата один мой подзащитный. Его вчера приговорили к смертной казни.
— В литературе все не так, все еще хуже. Скорее уж революционеры найдут общий язык с полицейскими, чем наши критики различных направлений, — Михаил Евграфович отодвинул от себя тарелку и позвонил, приглашая прислугу убрать со стола: — Глупая девка, ну, сколько прикажете ее дожидаться?
— А вот, к примеру, на ниве юриспруденции? — лукаво прищурился сытый граф, откидываясь на спинку стула. — Если все стороны по делам станут сами между собой договариваться, то ведь и вам, адвокатам, работы совсем не останется! Прокуроров уволят, суды опустеют…
— Да и пускай, — пожал плечами адвокат. — По мне лично, именно такой суд и нужен. Чтобы никто в нем не судился, чтоб лестница была не метена, чтоб паутина застилала потолки, чтоб швейцар был небрит, а жена швейцара, чтобы щи варила. И чтобы за всем тем всякий при виде этого пустынного суда понимал, что час воли божией — вот он! И прокуроры чтобы на всякий случай в окна смотрели, только на улицу бы не выбегали! Меня не огорчило бы, если б даже судебный персонал оставался бы в прежнем составе и продолжал бы получать присвоенные по штатам оклады. Во-первых, покуда суд не упразднен, нельзя упразднить и судей. Чем же они виноваты, что дел нет?
— Но, однако, помилуйте…
— А во-вторых, ведь надо же между кем-нибудь казенные доходы делить, так уж пусть лучше получают те, кои дела не делают, а от дела не бегают, нежели те, кои без пути, аки лев, рыщут, кого бы им проглотить для придания видимости работы…
Это все Алексей Михайлович произнес с такой непроницаемой и невозмутимой серьезностью, что его собеседники не сразу догадались, что присяжный поверенный шутит. И когда они, наконец, поняли и отсмеялись, Михаил Евграфович опять пожалел, что не успел записать мысли друга.
— Ну, так что, ваше сиятельство… господа… вернемся к делу? — Салтыков сделал несколько движений пальцами, как будто мечет колоду.
— Отчего же нет… пойдемте.
— Я велю нам подать коньяку и отменного сыру, — пообещал хозяин.
— А генерал, наверное, уж не придет, — скорее уточнил, чем поинтересовался граф.
Мужчины перебрались за карточный стол, и Лорис-Меликов, которому выпала очередь, раздал карты по кругу. Однако почти сразу из прихожей послышался перезвон дверного колокольчика, и новая горничная-чухонка, еще не хорошо умевшая объясниться по-русски, доложила, что изволили прибыть его высокопревосходительство сосед Федор Федорович…
— Значит, все-таки партия будет на четверых?
— На четверых. Один на прикупе.
— Вот и прекрасно, граф, — кивнул писатель Салтыков-Щедрин. — Пересдавайте снова!
— Сказать по совести, не верил я, что он придёт, — признался Алексей Михайлович.
Лорис-Меликов и хозяин дома понимающе переглянулись. Игра в преферанс теперь стала, пожалуй, единственным способом, который мог собрать за общий стол отставного обер-полицмейстера, весьма критически настроенного литератора, аристократа на высоком государственном посту и адвоката самых либеральных взглядов…
У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!.. Нет, видно, есть в божьем мире уголки, где все времена — переходные.
М. Е. Салтыков (Щедрин)
Погода стояла ясная, солнечная, воздух был мягкий, так что дышалось им легко, в приятном сознании заслуженного воскресного отдыха [47]. Снегу за последние дни выпало не так уж много, однако весь его убрать еще не успели, и наступившая оттепель превратила его в грязноватую, плотную массу.
Обычно зимой Государь передвигался по морозному насту со скоростью конского галопа — кареты его были запряжены великолепными лошадьми, а управлял ими опытный лейб-кучер Фрол Сергеев. Однако сегодня из-за очередного каприза столичной погоды кони с натугой переступали ногами, так что царский кортеж ехал значительно медленнее, чем это было заведено.
С недавних пор из-за постоянных угроз покушения Государя сопровождал весьма внушительный конвой, состоявший из шести конных казаков охраны, а также полицмейстера полковника Дворжицкого, начальника охранной стражи Отдельного корпуса жандармов капитана Коха и командира лейб-гвардии Терского казачьего эскадрона собственного Его Величества конвоя ротмистра Кулебякина, каждый из которых следовал в отдельных экипажах. Рядом с лейб-кучером на козлах