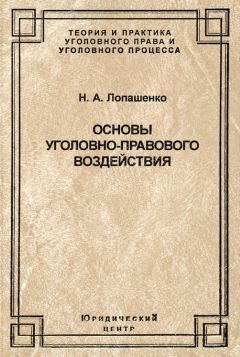— «Вертеп разврата», прошу… Только помедленней, проникновенней.
Клеопатра брала аккорды вступления и становой пристав вступал неожиданно приятным, сильным тенором:
Она ушла в вертеп разврата, Где вечно золото блестит, Где сердце, кровью обливаясь, И вечный демон там царит!
Стоявший возле раскрытого окна судебный следователь Александр Шкляревский, осанистый полный человек, с лицом, заросшим волосом, гудел на ухо соседу — судебному эксперту Буцке:
— Роберт Васильевич, какие же, право, у наших романсов глупые слова! Вы видели «вертеп разврата», в котором «золото блестит»? Откуда оно там возьмется?
Певец, ловко взяв невообразимо высокую ноту, со слезой на глазу продолжал:
Она в объятиях позора Ласкает пошлого льстеца. Забыла честь, забыла Бога, Забыла также и меня.
Тут вторым голосом вступила хозяйка. Душещипательный романс закончили дуэтом:
Зачем ты, мать моя родная, Меня на свет ты родила? Зачем судьбину проклиная Меня по жизни повела?
Лежишь в гробу себе спокойно, Не слышишь больше ничего, Услышь меня — так сердцу больно Любить, страдать, желать ее!
Любить жену с душой развратной, Любить наложницу свою! Ей жить со мной уже отвратно, С печалью я о том пою!
— Браво, браво! — захлопал в ладоши ротмистр.
— Пение хорошее, — одобрил Шкляревский, — а слова, не обижайтесь, господа исполнители, самые пошлые.
Сосед Клеопатры, живший в доме через ограду, мелочной торговец по фамилии Янкель, отрицательно помотал головой:
— Будьте известны, уважаемый Александр Андреевич, что это очень хорошая песня. Когда в Одессе я ходил пить чай в трактир «Медведь», так эту песню исполнял сам великий Семен Минкин, а он плохих песен не играет.
Савелий Соломонович Янкель прежде жил в Одессе, на Дальницкой улице Молдованки. Этот чудный город постоянно присутствовал в его разговорах. Все, что есть хорошего на свете, было — если послушать Янкеля — исключительно в Одессе и нигде более.
Можно предположить, что природная непоседливость и любовь к приключениям заставили этого доброго человека бросить насиженное место и оказаться в тамбовском деревенском углу.
В семье Янкеля было еще четыре человека — трое маленьких детишек и толстая красавица Лия, верная подруга неугомонного Савелия.
Неделями он трясся по непролазным дорогам в низенькой рогожной кибитке. Прибыв в очередной населенный пункт, Янкель останавливался на центральной площади. Как водится, тут же собиралась толпа праздных зевак. Тогда коммерсант влезал на свое ямщицкое сиденье, вздымал к небу руки, словно христианский проповедник среди аборигенов Берега Слоновой Кости, и начинал проникновенно взывать к разуму слушающих:
— Православные! Сегодня у вас замечательный день, и я уже радуюсь за вас. Сейчас я буду делать грех, потому что отдам хорошие вещи почти задаром. Именно так, православные, — просто в подарок! Пусть от этого мне и моим детям будет плохо, лишь бы вам от меня было маленькое счастье. В сто раз дешевле…
Янкель начинал доставать из кибитки ситец, коленкор, шпильки, булавки, нательные крестики, дешевые колечки и сережки, сонники и песенники.
Толпа рассматривала эти сокровища с интересом, но покупать никто ничего не желал. Янкель глядел на людей с горькой жалостью и вздымал руки к небу:
— Видит Бог, вы вызываете во мне недоразумение! Вы не желаете сделать мне убыток? Так это даже очень странно. В моей Одессе эти замечательные вещи оторвали бы вместе с моими руками. Чего же вы думаете?
Наконец, какая-нибудь старушка покупала себе аршин сукна на косынку, а другая протягивала семик за катушку ниток.
Янкель шел в трактир, выпивал две рюмки водки и отправлялся дальше, лелея в своей груди надежду на большое богатство.
Этот человек умел немного играть на скрипке и тем самым подошел к компании столь высоких особ. Когда он приносил свой древний, с облезлым во многих местах лаком, инструмент и начинал извлекать жалостные звуки, прекрасное лицо хозяйки подергивалось печальной задумчивостью.
Следователь Шкляревский был дальним родственником ярого монархиста Константина Кавелина, имевшего исключительное влияние на его умственное развитие. Шкляревский недолюбливал Янкеля и говорил, чуть презрительно улыбаясь:
— Еврей в русской деревне — это такая же бессмыслица, как апельсин на дубе. Община предлагала вам надел земли, причем земли хорошей, пахотной. Работай на свежем воздухе, укрепляй свое здоровье, приноси пользу обществу и себе лично! Ан нет, вы не таков, уважаемый Савелий Соломонович. Вы предпочли общественно-полезному труду никому ненужную коммерцию. Вам, как выяснилось, лучше месить грязь на дорогах, торговать булавками и подтяжками, чем честно трудиться.
Савелий в ответ кисло усмехался:
— Вы, сударь, вызываете у меня недоумение! Мы умеем делать всякую работу. Наш Иосиф был первым министром земледелия, кхе-кхе. — Савелий весьма остался довольным собственным остроумием. Он пригладил свои невыразимые пейсы и азартно продолжал: — Вот ваши мещане, они же не пашут землю? И к ним нет претензий. И вы, Александр Андреевич, тоже землю не пашете. Зачем же вы желаете, чтобы я делал труд, какой и вы сами не делаете? Это же смешно! — И Савелий посмотрел на Шкляревского с глубокой скорбью.
Тот уже собрался возражать с могучей силой аргументов, как в спор вмешалась Клеопатра:
— Дорогой Александр Андреевич, оставьте в покое моего милого соседа. Он лучше нас знает, как ему прокормить своих троих детей.
— Вот это правильно! — обрадовался поддержке Янкель. — Вы, Клеопатра Митрофановна, сами мать. Вы очень заботливы. Скажите, умоляю, как здоровье вашего сыночка? Прошлый раз ему было очень худо.
Доктор Буцке печально покачал головой:
— Это просто счастье, что вы, Владимир Семенович, — доктор посмотрел на мужа Клеопатры, — вовремя позвали меня. У него и впрямь состояние было крайне тяжелое. Он метался, имел блуждающий взор и сильные позывы на рвоту. От Кости разило камфарой. Ни в коем случае нельзя давать детям это средство.
Клеопатра в отчаянии прижала руки к груди:
— Да не давали мы Косте камфары, я уже говорила вам! Это лекарство мы даже в доме не держим. — Любящая мать смахнула с глаз слезы. — Мы так с мужем страдали! Если что-нибудь случилось бы с нашим мальчиком, с нашим ангелочком, мы не пережили бы такого удара! — Клеопатра тяжело вздохнула, перевела дыхание и произнесла: — Впрочем, друзья, хватит на сегодня о плохом. Милости прошу — к столу! Чем богаты, тем и рады.
Ротмистр обратился к Янкелю:
— А где ваша милая супруга? Почему вы сегодня один?
— Так на следующей неделе у нас Пасха! Лия начала готовиться к ней. Надо хорошо встретить большой праздник, согласно закона наших предков.
…Гости размещались за столом, и никто не обратил на эти слова особого внимания. О них вспомнили неделю спустя. В день еврейской Пасхи в доме ротмистра стряслась непоправимая беда.
Все последние дни стояла непогода. С неба валил мокрый тяжелый снег, дороги стали непролазными. Но в канун еврейской Пасхи, пришедшейся на 25 марта, западный ветер сменился на северный. Ударил морозец, сковал колчи дорог.
Шкляревский, позавтракав, принялся за газеты. Вдруг за окном послышался неясный, с каждым мгновением усиливающийся, говор. На крыльце застучали торопливые шаги, дверь распахнулась и в комнату ввалился Шпилькин — тенор и пристав. За ним, постаревшая лет на десять, двигалась с зареванным лицом Клеопатра. Шатаясь, она сделала два шага и тяжело рухнула в ноги Шкляревского:
— Ой, погибель моя пришла! Моего ненаглядного Костеньку, мое солнышко ясное, злодеи убили!…
Следователь недоуменно отшатнулся:
— Как убили? Кто убил?
Шпилькин зачем-то вдруг вытянулся по-военному:
— Позвольте доложить! Убийство ребенка жидами. Ритуал такой. Для ихней Пасхи. Помните, Александр Андреевич, Янкель прошлой субботой, на вечере у Клеопатры Митрофановны, грозил: «Отпразднуем согласно закона предков!» Вот, отродье, и празднуют!
Шкляревский попросил:
— Я ничего не понимаю, расскажите, пожалуйста, по порядку. Да и вы, Клеопатра Митрофановна, подымитесь с пола, садитесь в это кресло. Вот вам вода, попейте, успокойтесь. Так что же случилось? И почему под моими окнами собралась разъяренная толпа? Что хотят эти люди? И еще вопрос: где ваш муж?
Давясь слезами, безутешно всхлипывая, несчастная мать начала свою печальную повесть:
— Мой муж еще в понедельник уехал в Тамбов. Должен был вернуться 23 марта, то-есть позавчера. Но я получила от него телеграмму: «Буду 26-го». Впрочем, к делу это не относится. Все произошло вчера в час вечерний. На небосводе уже звезды зажглись, а я со своим Костей пошла на прогулку моциона ради. На дворе хорошо так, безветренно, легкий морозец. Малыш крепко спит… — Клеопатра не справилась с чувствами, вновь разрыдалась. Шкляревский дал ей испить воды.