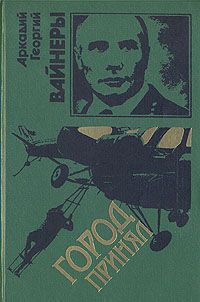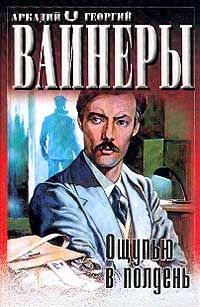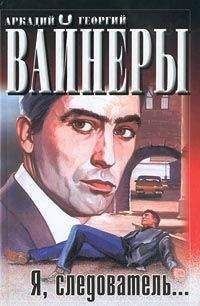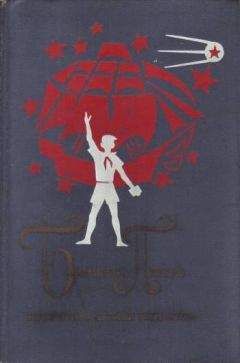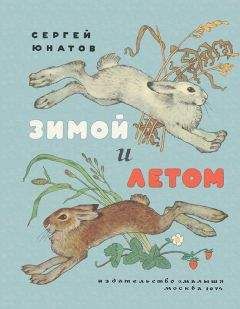— Странный все-таки народ эти жулики, — сказал он, после того как мы прошагали минуты две молча. — Даже ученые сколько лет над ними бьются, а понять не могут…
— Чего не могут понять ученые? — спросила я. — Психологии или…
— Ну, всех этих проблем. Одни ученые формулируют так: «Преступление не вознаграждается».
— То есть не стоит овчинка выделки?
— Примерно. По всей, так сказать, сумме результатов. И не только тогда, когда вместо вожделенного кошелька карманник получает пять лет. Затраты нервов, постоянный страх и тому подобное…
Об этом стоило расспросить подробнее, но пока что я поинтересовалась:
— А что говорят другие ученые?
— Другие смотрят на это дело с меньшим оптимизмом. Англичанин один, Эйсенк, прямо заявил: для добывания денег преступление открывает куда более широкие перспективы, чем труд. Правда, мне кажется, что их английские жулики — ребята куда более основательные, чем наши, и «добывание денег» понимают как хороший счет в банке. А наши охломоны накопительством обычно не занимаются: все идет на пропой души… Вот и рассуди…
Нас остановила женщина, которая вела за руку мальчугана лет восьми в круглых очках:
— Не скажете, где здесь детский шахматный клуб?
— Н-не знаю, — сказал Стас.
Не слушая ответа, женщина спросила:
— А как туда пройти?
Стас ухмыльнулся, показал в сторону Страстного бульвара:
— Вот пройдете сквериком, потом налево, а там спросите…
Я возмущенно дернула его за рукав:
— Как тебе не стыдно, ты же культурный человек!
Стас с сомнением покачал головой, сказал со своей обычной мальчишеской усмешкой:
— На мне культурный слой — два сантиметра…
Доспорить не пришлось, потому что мы вошли в вестибюль Екатерининской больницы, где Стас очень быстро получил для нас белые халаты и пропуска. По светлой широкой лестнице поднялись на второй этаж, прошли в хирургическое отделение: как мне объяснил Стас, у Вышеградского была язва желудка.
— Рад вас видеть, старший лейтенант, — непринужденно сказал Стасу худощавый паренек с живыми черными глазами, лежавший на ближайшей к двери кровати.
Стас придвинул мне стул, а сам уселся на краешке постели и сказал:
— Во-первых, я уже давно капитан; во-вторых, не обманывай, пожалуйста: вовсе ты не так уж обрадовался.
— А я думал, вы меня навестить пришли вместе со своей любимой девушкой, — разочарованно сказал Вышеградский. — Варенья принесли домашнего, конфет «Огни Москвы» — вы ведь знаете, как я люблю сладкое!
И в словах его прозвучал очевидный намек на какие-то обстоятельства, только им одним известные. Впрочем, потом Стас мне рассказал, что года четыре назад он встретил Вышеградского в кафе «Шоколадница» и тот широким жестом послал ему на стол бутылку дорогого коньяка и букет роз для его девушки; и как Стасу было неловко и неудобно объяснять девушке, не знавшей о его профессии, почему он не может принять столь любезный и красивый подарок.
А сейчас Стас только улыбнулся, залез в карман и протянул Рудику ириску:
— На тебе сладкого, а за это расскажи мне, как ты вчера «постирал лохов» в магазине «Ява».
— Капитан, как не стыдно: за какую-то ириску вы хотите получить рассказ товарища Шейнина, а может, еще и получше!
Стас сказал укоризненно:
— Марчелло, когда это меня интересовали рассказы? Мой любимый жанр — чистосердечные признания!
— А когда это вы от меня получали чистосердечные признания? — в тон ему быстро ответил Рудик.
— В прошлый раз, например, — равнодушно сказал Стас, а Рудик засмеялся:.
— Так в прошлый раз меня лохи завалили, наглухую…
— Значит, ты все-таки думаешь, что в этот раз я пришел тебя по-семейному навестить, с гостинцами, — ухмыльнулся Стас.
Вышеградский задумчиво почесал подбородок, предположил:
— Вы явились… как это у вас называется… меня прощупать. Но я чист как ангел, на мне железное алиби по любому делу. И я лежу себе в коечке и тихо напеваю: «Ах, васильки, васильки, много мелькает их в поле…» О-очень жалостливая песня, правда, мадам? — впервые обратился он ко мне.
— Я что-то не помню, — растерявшись, сказала я. Лицо у этого парня было сухое, жесткое, но когда он открывал в улыбке ослепительные зубы, на щеках появлялись очаровательные девичьи ямочки, а глаза светились тепло и мягко — безусловно в нем было какое-то непонятное обаяние, так и тянуло в чем-нибудь ему довериться. И наверное, поэтому я спросила: — А чем вы больны, Вышеградский?
— У меня болезнь профессиональная, — горько сказал Рудик. — Язва желудка — как следствие очень нервной работы. Да и вообще…
— Поплачься, поплачься, — снова усмехнулся Стас.
— Тяжелая наследственность, раннее сиротство, три судимости…
— Сиротства, слава Богу, не было, а судимости… Эх, вспоминать неохота! А все оттого, что я неудачник с самого рождения. Представляете, мадам, уже в родильном доме у меня украли клеенчатую бирку, на которой были обозначены мои фамилия, возраст, а главное — пол! И с тех пор я мучаюсь по белу свету…
Я захохотала, и на сумрачном лице Рудика тоже промелькнула тень улыбки, но Стас недовольно покосился на меня, и я умолкла, а он сказал:
— Во сколько у вас здесь, в больнице, прогулка?
Рудик помотал головой:
— В четыре, допустим, но…
— Давай только сразу условимся, — перебил Стас. — Ложные показания допустимы только в отношении фактов, которые я не могу проверить!
— М-да-а, я только хотел сказать, что прогулкой не пользуюсь, — огорчился Рудик.
— Ну вот и не надо говорить неправду, — сказал Стас. — Я тебе сейчас коротенько расскажу насчет вчерашнего, если что не в цвет, ты меня поправишь.
— Расскажите, — согласился Рудик. — Только чего не было, не шейте.
— Марчелло, ты же меня знаешь, — развел руками Стас. — Разве хоть один блатной имеет право сказать, что я когда-нибудь липовал?
Рудик покачал головой:
— Не, это я на всякий случай, не обижайтесь, капитан.
— Ну и договорились. Только условимся: не перебивать.
— Вери вел, — сказал на чистом английском Рудик.
— Недели две назад ты возник в одном министерстве. Ты ходил туда, как на работу. Уже через неделю ты дружил со всеми секретаршами, швейцарами, лифтерами. С лифтерами ты перекуривал, швейцаров одаривал двугривенными, а секретарш покорял фигурными шоколадками. Со всеми здороваешься за руку, начальников называешь по имени-отчеству — словом, ты всех знаешь и тебя все знают. После этого ложишься в больницу. Тем более что у тебя в самом деле язва, и я совершенно согласен, что это от нервных перегрузок. Осваиваешься с больничным режимом и назначаешь операцию «Явы» на вчерашний день.
Рудик слушал внимательно, иногда кивал, иногда несогласно покачивал головой, но условие Тихонова выполнял — не перебивал.
— Вчера ровно в шестнадцати ты вышел на прогулку в парк, одетый в эту самую распрекрасную пижаму. Не торопясь и не привлекая внимания, дошел до выхода на Петровку, где тебя ждал дружок на бежевом «Москвиче». Переодеться в машине, пока она мчится к магазину «Ява», в джинсы и замшевую курточку — плевое дело. А около магазина уже маются два молодых «лоха», им до смерти хочется новеньких, исключительно привлекательных красных мотоциклов, а в карманах полно денег. Вы с дружком берете их на крючок, объясняете про наряды из министерства, везете их туда, там заставляешь их писать заявления, на столе у секретарши, пока парни ждут в коридоре, накладываешь от имени Бориса Иваныча красную резолюцию и тащишь к бухгалтерии. Там забираешь две тысячи сто и уходишь через второй коридор. Классический «сквозняк». Дружок доставляет тебя к больнице, забирает свою долю, а ты, переодевшись в пижаму, возвращаешься болеть дальше. И дело сделано, и алиби железное.
— А что, нет? — по-птичьи склонив голову, спросил Рудик, но особой уверенности в его голосе не было.
— Нет! — жестко сказал Стас. — Пора тебе менять профессию, Марчелло. Ты ведь умный, когда же ты поймешь, что уже примелькался, тебя не то что по фотографии, тебя по одному почерку в МУРе расколют!
— Почерк можно подделать… — лениво сказал Рудик, откинул голову на подушку, устало закрыл глаза. — Есть что-нибудь еще?
— Есть. Двое потерпевших, которые опознали тебя по фотографиям — не только свежим, но и десятилетней давности. Раз. — Тихонов для верности загнул палец. — Они же опознают тебя лично. Два. Пятнадцать человек в министерстве, ты им достаточно там намозолил глаза, опознают тебя безоговорочно, а сказать, что именно ты там делал, не смогут, они же не знают! Самое смешное, что и ты — даже для приличия — не сможешь придумать нам какое-нибудь объяснение: зачем ты там неделю — и вчера также — болтался. Ну, скажи мне вот так, с ходу: какие такие были у тебя срочные дела в министерстве, что ты туда с больничной койки смотался, а?