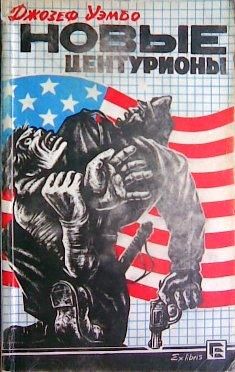Неужели ненависть – это именно то, чего я так боюсь? Неужели ее? Лица, искаженного ненавистью?
– Эй, квочка, кончай высиживать цыплят, отжимай сцепление! – крикнул Кильвинский, не имея возможности помешать какой-то дамочке за рулем ползти на своей машине к светофору. Она преградила им путь и вынудила затормозить на желтый свет.
– Пятьдесят четвертая улица, западная сторона, номер сто семьдесят три, – проговорил Кильвинский, царапая в блокноте.
– Что? – спросил Гус.
– Наш вызов. Пятьдесят четвертая улица, западная сторона, номер сто семьдесят три. Записывай.
– О, простите меня, пожалуйста. Никак не освоюсь с этим радио.
– Ответь им, – сказал Кильвинский.
– Три-А-Девяносто девять, вас понял, – произнес Гус в ручной микрофон.
– Ты и сам не заметишь, как начнешь без труда различать сквозь это щебетание свои позывные, – сказал Кильвинский. – Просто требуется какое-то время. У тебя получится.
– А что это за вызов?
– Вызов по невыясненным обстоятельствам. Это значит, что человек, позвонивший в полицию, и сам толком не понимает, что там стряслось, или не смог этого связно объяснить, или его не понял оператор, – такой вызов может означать все что угодно. Потому-то они мне и не по душе, такие вызовы. Пока не попадешь на место, понятия не имеешь, какая переделка тебя ожидает.
Гус нервно взглянул на фасады магазинов и увидел двух негров с высокими лоснящимися прическами и в цветных комбинезонах. Их красный «кадиллак» с откидным верхом остановился перед витриной, надпись на которой гласила:
«Ателье Большого Индейца», ниже желтыми буквами было приписано: «Самые модные прически. Процесс».
– Как вы называете такие прически, как вон на тех двух? – спросил Гус.
– На тех сводниках? Это как раз «процесс» и есть, хотя кое-кто называет его «марсель». У пожилых полицейских имеется на этот счет свое словечко – «газировка», но для рапортов большинство из нас ограничивается «процессом». На то, чтобы ухаживать за чудесным «процессом», наподобие вон того, уходит уйма денег, но ведь у сводников их куры не клюют. А иметь «процесс» на голове для них так же важно, как иметь «кадиллак». Без этих двух вещей не обходится ни один уважающий себя сводник.
Хорошо бы солнце наконец село и стало чуть прохладней, думал Гус. Он любил летние вечера, сменяющие такие вот жаркие и сухие, как бумага, дни.
Над белым двухэтажным оштукатуренным домом на углу показался полумесяц, рядом с ним загорелась какая-то звездочка. У широких дверей стояли двое коротко остриженных мужчин в черных костюмах и бордовых галстуках. Заложив руки за спины, они провожали полицейский автомобиль сердитыми взглядами.
– То была церковь? – поинтересовался Гус у Кильвинского, который даже не посмотрел ни на здание, ни на мужчин.
– Мусульманский храм. Что-нибудь знаешь о мусульманах?
– Да так. Кое-что читал в газетах.
– Секта фанатиков, не так давно пустившая ростки по всей стране. В нее вошли и многие бывшие жулики. Все они терпеть не могут полицию.
– А выглядят чистюлями, – сказал Гус и бросил взгляд через плечо. Лица мужчин неотрывно следили за их машиной.
– Они лишь капля в потоке, захлестнувшем страну, – сказал Кильвинский.
– Кроме нескольких человек, вроде нашего шефа, никто не ведает, к какому берегу нас прибьет. Чтобы выяснить это, может, понадобится десяток лет.
– Что это за поток? – спросил Гус.
– Долго объяснять, – ответил Кильвинский. – Да и не уверен, что у меня получится. Кроме того, мы уже приехали.
Гус обернулся и увидел на почтовом ящике зеленого оштукатуренного дома цифры 173. По переднему дворику тут и там был раскидан мусор.
На полуразвалившемся крыльце трясся, съежившись на ветхом плетеном стуле, старый негр в спецовке цвета хаки. Гус едва разглядел его.
– Хорошо, что вы, шефы, заимели возможность заехать, – сказал негр, вставая и постоянно поглядывая в приоткрытую дверь. Его била мелкая дрожь.
– В чем дело? – спросил Кильвинский, поднявшись на три ступеньки.
Фуражка его на серебристой копне волос держалась как влитая.
– Пришел я, значит, домой, а в доме вижу мужика. И даже не знаю, кто таков будет. Он сидел, значит, там и глядел на меня, а я испужался и побег прямо сюда вот, а потом дальше, вон в ту дверь, и позвонил по соседскому телефону, а пока вас дожидался, значит, все внутрь поглядывал, а он сидит там и качается. Боже ж ты мой, думаю: помешанный. Молчит, сидит и качается.
Гус непроизвольно потянулся к дубинке и вцепился пальцами в пазы на рукояти, ожидая, какой первый шаг предпримет за них Кильвинский. И был немало смущен, осознав, что испытал облегчение, когда Кильвинский подмигнул ему и произнес:
– Ты, напарник, оставайся здесь – на случай, коли он попытается выбраться в заднюю дверь. Там забор, так что ему придется поспешить обратно. Парадный вход – это единственное, что ему остается.
Спустя несколько минут Гус со стариком услышали крик Кильвинского:
– Ладно уж, сукин сын, выметайся и не вздумай возвращаться!
Хлопнула задняя дверь. Затем Кильвинский откинул москитную сетку и сказал:
– О'кей, мистер, можете войти. Он убрался.
Гус направился следом за ссутулившимся стариком. Вступив в прихожую, тот снял с головы измятую шляпу.
– Он, конечно, убрался, на то вы и начальство, – сказал старик, но дрожать не перестал.
– Я запретил ему возвращаться, – сказал Кильвинский. – Не думаю, что он когда-нибудь объявится еще в ваших краях.
– Да благословит вас всех Господи Боже, – произнес старик, направился, шаркая, к задней двери и запер ее на ключ.
– Давно пил в последний раз? – спросил Кильвинский.
– О, пара дней уж минула, – ответил старик, улыбнувшись и обнажив почерневшие зубы. – Со дня на день, значит, чек должен по почте прийти.
– Что ж, все, что тебе сейчас нужно, – это чашка чаю да немного сна. А завтра почувствуешь себя гораздо лучше.
– Благодарю вас, значит, всех без исключения, – сказал старик, а они уже шагали по щербатому бетонному тротуару к своей машине. Кильвинский сел за руль, тронул с места, но так и не проронил ни единого слова.
Наконец Гус сам прервал молчание:
– Должно быть, для алкоголиков их белая горячка сущий ад, а?
– Должно быть, – кивнул Кильвинский. – Ниже по улице есть одно местечко, где мы можем выпить кофе. Он так плох, что годится разве что для севшего аккумулятора, зато бесплатный, как и пончики к нему.
– Мне это по вкусу, – сказал Гус.
Кильвинский остановил машину на захламленной автостоянке перед буфетом, и Гус отправился внутрь, чтобы заказать кофе. Фуражку он оставил в машине и теперь чувствовал себя ветераном, решительно входя в кафе, где смахивающий на пьяницу морщинистый тип с безразличным видом разливал кофе для трех завсегдатаев-негров.
– Кофе? – спросил тип Гуса, приблизившись к нему с двумя бумажными стаканами в руке.
– Да, пожалуйста.
– Сливки?
– Только в один, – ответил Гус. Пока продавец цедил жидкость из кофейника и расставлял по стойке стаканчики, Гус сгорал от стыда, пытаясь решить, как бы подипломатичнее заказать бесплатные пончики. Нельзя одновременно не быть нахальным и хотеть пончик. Насколько было бы проще, если б они попросту оплатили и кофе, и пончики, подумал он, но тогда это шло бы вразрез с традицией, если же ты совершаешь нечто подобное, то рискуешь стать жертвой слушка о том, что с тобой бед не оберешься.
Продавец решил эту дилемму без труда:
– Пончики?
– Да, пожалуйста, – сказал Гус с облегчением.
– С шоколадом или без? С глазурью кончились.
– Два – без, – ответил Гус, понимая, что Кильвинский вряд ли одобрил бы его выбор.
– Крышечки дать?
– Не нужно, справлюсь и так, – сказал Гус, но спустя мгновение обнаружил, что в здешних буфетах подают самый горячий кофе во всем Лос-Анджелесе.
– Действительно горячий, – слабо улыбнулся он на случай, если Кильвинский видел, как он пролил кофе на себя. От внезапной вспышки боли лоб его покрылся испариной.
– Жди теперь, пока тебя поставят в первую смену, – сказал Кильвинский.
– Когда-нибудь зимой, уже за полночь, как раз когда мороз поддаст перцу, этот кофе так запалит тебе нутро, что никакая зимняя ночь его не остудит.
Солнце коснулось горизонта, но жара не спадала, и Гус подумал, что «кока-кола» была бы сейчас куда более кстати. Он успел, однако, заметить, что полицейские – страстные любители кофе, а значит, и ему предстоит его полюбить, ведь как бы то ни было, а он собирается стать одним из них.
Спустя минуты три Гус снял наконец стакан с крыши полицейской машины и отхлебнул из него, но кофе, из которого по-прежнему густо валил пар, был все еще чересчур горяч для него. Оставалось только ждать и следить краем глаза за тем, как пьет свой кофе большими глотками, дымит сигаретой и занимается настройкой радио Кильвинский. И успокаивается лишь тогда, когда звук делается едва слышен, чего для Гуса явно недостаточно, но, коли он не в состоянии отличить их позывных сквозь эту хаотическую пародию на голоса, сойдет и так, лишь бы Кильвинского устраивало.