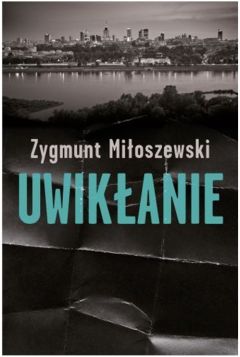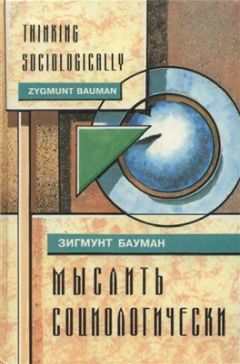Все трое — Эузебий, Ханна и Барбара — кивнули и вышли. Рудский обошел стол, проверил, есть ли в термосе еще кофе, и налил себе полную кружку. Ругнулся под носом, потому что забыл оставить место на молоко. Теперь следовало выбирать: отпить или отлить. Вкуса черного кофе он не терпел. Вылил сколько-то в мусорную корзину, долил молока и встал у окна. Он глядел на проезжающие по улице автомобили, на стадион через дорогу. И как этим мазилам вновь удалось проиграть лигу, подумал. Теперь не будут даже вице-чемпионами, не помог даже унизительный разгром «Вислы» со счетом 5:1 две недели назад. Но, по крайней мере, им хоть кубок взять удастся, завтра первый полуфинальный матч с Гроцлином. С тем самым Гроцлином, с которым за последние четыре года «Легия» ни разу не выиграла. Снова какое-то чертово проклятие.
Он тихонечко рассмеялся. Невероятно, как действует человеческий мозг, если сейчас он еще способен обдумывать футбольные ситуации. Рудский поглядел на часы. Еще тридцать минут.
За несколько минут до девяти он покинул трапезную и отправился в ванную почистить зубы. По дороге разминулся с Барбарой Ярчик. Заметив, что психотерапевт идет в сторону, противоположную залу для сессий, та вопросительно глянула.
— Сейчас буду, — сказал тот.
Он еще не успел выдавить пасту на щетку, когда услышал крик.
Теодора Шацкого разбудило то, что обычно будило его в воскресенье. Нет, это было не похмелье, ни жажда, ни потребность отлить, ни яркое солнце, проникшее сквозь соломенные жалюзи, ни дождь, барабанящий в навес над балконом. Это была Хелька, его семилетняя дочка, которая вскочила на него с таким задором, что диван от Икеи затрещал.
Теодор открыл один глаз, в который тут же сунулась каштановая кудряшка.
— Видишь? Бабуля сделала мне локоны.
— Вижу, — ответил тот и вытащил волосы из глаза. — Жаль только, что она ими тебя не связала.
Шацкий поцеловал дочку в лоб, сбросил ее с себя, поднялся и отправился в туалет. Он уже был в двери комнаты, когда с другой стороны лежанки что-то пошевелилось.
— Щелкни там воду на кофе, — послышалось урчание из-под одеяла.
Концерт по желаниям, как и каждый выходной. Шацкий тут же почувствовал раздражение. Он спал десять часов, но устал невероятно. Когда все это началось, он не помнил. Валяться в постели можно было полдня, и все равно, вставал с неприятным вкусом во рту, песком в глазах и таящейся между висками болью. И без какого-либо смысла.
— Ну почему бы тебе не сказать прямо, чтобы я сделал тебе кофе? — спросил он с претензией.
— Потому что себе я и сама могу сделать, — слова жены были едва различимы, — не хочу морочить тебе голову.
Шацкий в театральном жесте вознес взгляд к потолку. Хелька рассмеялась.
— Но ведь ты же всегда так говоришь, а кофе все равно делаю тебе я!
— Можешь не делать. Я ведь прошу тебя только поставить воду.
Шацкий отлил, заварил жене кофе, пытаясь не глядеть на кучу грязной посуды в раковине. Это же четверть часа мытья, если желает сделать обещанный завтрак. Боже, как же он устал. Вместо того, чтобы дрыхнуть до полудня, а потом пялиться в телевизор, как все остальные мужики в этой патриархальной стране, он строит из себя супер-мужа и супер-отца.
Вероника вылезла, наконец-то, из постели и теперь стояла в прихожей, критично приглядываясь в зеркале. Теодор и сам присмотрелся к ней критично. Нет, сексуальной та была всегда, но на модель никогда не походила. И все равно, трудно найти объяснение второму подбородку и жирку спереди и сзади. А тут еще эта футболка. Он не требовал, чтобы жена всякий день спала в тюлях и кружевах, но, черт подери, ну чего она все время таскает эту футболку с выцветшей надписью «Disco fun», родом, похоже, из времен посылок с подарками! Он подал жене чашку с кофе. В ответ Вероника поглядела на мужа подпухшими глазами и почесала себя под грудью. Сказала спасибо, инстинктивно чмокнула в нос и отправилась под душ.
Шацкий вздохнул, пригладил ладонью белые, словно молоко, волосы и пошел на кухню.
«Так, а на самом деле, чего мне нужно?» — подумал он, пытаясь вытащить губку из-под грязных тарелок. Приготовление кофе — это один момент, мытье посуды — момент второй, завтрак — третий. Несчастные полчаса, и все будут счастливы. Еще более устало он подумал о всем том времени, которое проходило для него сквозь пальцы. Стояние в пробках, тысячи пустых часов в суде, бессмысленная трата времени на работе, когда, самое большее, он мог раскладывать пасьянс, ожидание чего-то, ожидание кого-то, ожидание ожидания. Ожидание — как отмазка, чтобы абсолютно ничего не делать. Вот передовик Гурник отдохнул лучше меня, жаловался он про себя, пытаясь пристроить в сушилке стакан, для которого там не было места. Ну почему он раньше не убрал сухую посуду? Черт бы ее всю побрал! Неужто для всех остальных жизнь — это тоже такая же мука?
Позвонил телефон. Трубку сняла Хеля. Шацкий слушал разговор, направляясь в комнату и вытирая руки тряпкой.
— Папа дома, но он подойти не может, потому что он моет посуду и жарит всем нам яичницу…
Теодор забрал трубку из руки дочери.
— Шацкий. Слушаю?
— Добрый день, пан прокурор. Не хочу пана беспокоить, только яичницу вы уже сегодня никому не пожарите. Разве что на ужин, — услышал он с другой стороны линии знакомый, говорящий с восточным распевом голос Олега Кузнецова из полицейского участка на Вильчей.
— Олег, умоляю, только не это.
— Это не я, пан прокурор, это город вас призывает.
Огромный, старый ситроен плыл под опорой Швентокшижского моста с грацией, которой ему могли позавидовать многие автомобили, появляющиеся на том же мосту в качестве нахального product placement в польских романтических комедиях. Вполне возможно, что этот Пискорский[8] и махинатор, подумал Шацкий, но два моста ведь стоят. При Селезне никто и подумать не мог, чтобы отважиться принять решение о подобной инвестиции.
Тем более, перед выборами, Вероника была юристом в мэрии и неоднократно рассказывала, как теперь принимаются решения. Так вот: на всякий пожарный их вообще не принимают.
Шацкий съехал на Повисле и — как обычно — облегченно вздохнул. Он был у себя! Уже десять лет жил на Праге[9] и все еще не мог привыкнуть к смене обстановки. Он старался, но только новая малая родина обладала для него одним достоинством — она располагалась близко от Варшавы. Сейчас же проехал мимо театра «Атенеум»,[10] где когда-то влюбился в Антигону в Нью-Йорке;[11] роддом, в котором появился на свет; спортивный центр, где учился играть в теннис; парк у здания парламента, где бесился с братом на санках; бассейн, в котором научился плавать и подцепил грибок. Сейчас он был в центре, в центре собственного города, в центре собственной страны, в центре своей жизни. Самой гадкой, которую только можно представить, axis mundi (ось мира — лат.).
Шацкий проехал под рассыпающимся виадуком, свернул в Лазенковскую и припарковался под домом культуре, тепло подумав о находящемся в паре сотнях метров стадионе, на котором столичные воины только что разнесли в пух и прах «Белую Звезду».[12] Шацкий не сильно интересовался спортом, но вот Вероника была такой рьяной болельщицей, что, хочешь — не хочешь, он мог на память перечислить результаты всех матчей «Легии» за последние пару лет. А завтра его жена наверняка отправится в трехцветном шарфике на матч. Четвертьфинал кубка.
Теодор закрыл автомобиль и поглядел на дом по другой стороне улицы, одно из наиболее курьезных зданий столицы, рядом с которым Дворец Культуры и микрорайон за Желязной Брамой представляли собой пример не тай уж настырной, приглушенной архитектуры. Когда-то здесь был приходской костел Ченстоховской Божьей Матери, полностью уничтоженный во время войны как одно из мест повстанческого сопротивления. Целые десятилетия не отстраиваемый, он пугал мрачными развалинами, культями колонн, открытыми подвалами. Когда, в конце концов, костел воскресили, он стал визитной карточкой хаотичности города. Всякий проезжающий по Лазенковской Трассе видел эту кирпичную химеру: смесь костела, монастыря, крепости и дворца Гаргамеля. Именно в этом месте когда-то появился Злой.[13] И вот теперь обнаружили труп.
Шацкий поправил узел галстука и перешел на другую сторону улицы. Начало капать. У ворот стояла патрульная полицейская машина и еще одна полицейская машина без особых отметок. Возле них несколько зевак, которые вышли после утренней мессы. Олег Кузнецов разговаривал с техником из столичной криминалистической лаборатории. Он прервал свою беседу и подошел к Шацкому. Оба обменялись рукопожатиями.
— Что, после того собираешься на коктейль на улицу Розбрат?[14] — съязвил полицейский, поправляя лацканы пиджака приятеля.